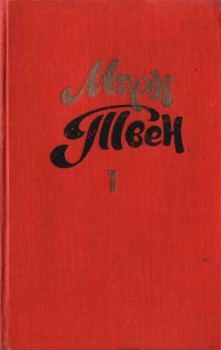Марк Твен
Режьте, братцы, режьте!
Я попрошу читателя бросить взгляд на следующие стихи, пускай он попробует отыскать в них что-нибудь зловредное:
Кондуктор, отправляясь в путь,
Не рви билеты как-нибудь;
Стриги как можно осторожней,
Чтоб видел пассажир дорожный.
Синий стоит восемь центов,
Желтый стоит девять центов,
Красный стоит только три.
Осторожней режь, смотри!
Припев:
Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно!
Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!
На днях эти звучные вирши попались мне на глаза в одной газете, и я прочел их раза два подряд. Они мгновенно и неизгладимо врезались в мою память. Все время, пока я завтракал, они вихрем кружились в моей голове, и когда я наконец свернул салфетку, то не мог толком вспомнить, ел я что-нибудь или нет. Вчера вечером я долго думал и решил, что буду писать сегодня один потрясающе драматический эпизод в начатом мною романе. Я ушел к себе в кабинет, чтобы совершить кровавое злодеяние, взялся за перо, но не мог написать ничего, кроме: «Режьте, братцы, режьте!» Целый час я ожесточенно сопротивлялся этому, но без всякой пользы. В голове у меня гудело: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов» и так далее и так далее, без отдыха и без остановки. Рабочий день пропал даром — я это понимал как нельзя лучше. Я сложил оружие и поплелся в центр города, причем тут же обнаружил, что шагаю в такт этим неумолимым виршам. Я терпел, сколько мог, потом попробовал шагать быстрей. Однако это не помогло, стихи как-то сами применились к моей новой походке и терзали меня по-прежнему. Я вернулся домой и промучился весь день до вечера; терзался в течение всего обеда, сам не понимая, что ем; терзался, рыдал и декламировал весь вечер; лег в постель, ворочался, вздыхал — и все так же декламировал вплоть до полуночи; потом встал вне себя от ярости и попробовал читать, но буквы вихрем кружились передо мной, и ничего нельзя было разобрать, кроме: «Режьте, чтобы видел пассажир дорожный». К восходу солнца я окончательно рехнулся и приводил в изумление и отчаяние всех домашних навязчивым и бессмысленным бредом: «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно!»
Дня через два, в субботу утром, я встал с постели совершенно разбитый и вышел из дому, как это было заранее условлено с моим близким другом, его преподобием мистером X., чтобы отправиться на прогулку к башне Толкотта, милях в десяти от нас. Мой друг посмотрел на меня пристально, но ни о чем не спросил. Мы отправились в путь. Мистер X. говорил, говорил, говорил без конца, по своему обыкновению. Я ни слова не отвечал ему: я ничего не слышал. После того как мы прошли около мили, мой друг сказал:
— Марк, ты болен? Я в жизни не видывал, чтобы человек был до такой степени измучен, бледен и рассеян. Скажи хоть что-нибудь, ну пожалуйста!
Без всякого одушевления, вялым голосом я произнес:
— «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно! Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!»
Мистер X. сначала уставился на меня растерянным взглядом, не находя слов, потом сказал:
— Марк, я не совсем понимаю, к чему ты клонишь. Как будто в твоих словах нет ничего особенного, и, уж, конечно, ничего печального, а все-таки… может быть… ты так их произносишь — ну прямо за сердце хватает. В чем тут…
Но я уже не слышал его. Я весь ушел в беспощадное, надрывающее сердце чтение: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри». Не помню, как мы прошли остальные девять миль. Вдруг мистер X. положил руку мне на плечо и закричал:
— Проснись, проснись, да проснись же! Не спи на ходу! Ведь мы уже пришли к башне. Я успел наговориться до хрипоты, до глухоты, чуть не до слепоты, а ты мне так ни разу и не ответил. Посмотри, какой вокруг чудесный осенний пейзаж! Да посмотри же, посмотри! Полюбуйся на него! Ты же много путешествовал, видел в других местах прославленные красоты природы. Ну, выскажи свое мнение: нравится тебе или нет?
Я устало вздохнул и пробормотал:
— «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три. Осторожней режь, смотри!»
Его преподобие мистер X. остановился и посмотрел на меня долгим и очень грустным взглядом, как видно сожалея обо мне, потом сказал:
— Марк, тут есть что-то непонятное для меня. Это почти те же самые слова, что ты говорил и раньше, в них как будто нет ничего особенного, а между тем они прямо-таки надрывают сердце. «Режьте, чтобы видел…» — как это там дальше?
Я начал с самого начала и повторил все до конца. Лицо моего друга засветилось интересом. Он сказал:
— Какие пленительные рифмы! Это почти музыка. Они текут так плавно. Я, кажется, тоже запомнил их наизусть. Повтори, пожалуйста, еще разок, тогда я уж наверняка все запомню.
Я повторил. Потом мистер X. прочел их сам. В одном месте он слегка ошибся, я его поправил. Во второй и третий раз он читал стихи уже без ошибки. И тут словно огромная тяжесть свалилась у меня с плеч Мучительные вирши вылетели у меня из головы, и блаженное чувство мира и покоя снизошло на меня. На сердце у меня сделалось так легко, что я даже запел, и пел всю обратную дорогу домой, целых полчаса. После этого мой язык развязался, и слова после долгих часов молчания потекли рекой. Речь моя лилась свободно, радостно и торжествующе до тех пор, пока источник не иссяк и не пересох до самого дна. Пожимая на прощанье руку моему спутнику, я сказал:
— Правда, ведь мы провели время просто по-царски! Хотя я припоминаю теперь, за последние два часа ты не сказал ни слова. Ну же, ну, скажи хоть что-нибудь!
Его преподобие мистер X. обратил ко мне потускневшие глаза, тяжело вздохнул и сказал без всякого оживления и, как видно, бессознательно:
— «Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно. Режьте, чтобы видел пассажир дорожный!»
Сердце мое болезненно сжалось, и я подумал про себя: «Ах, бедняга, бедняга! Теперь вот к нему перешло».
После этого я не виделся с мистером X. дня два или три. Но во вторник вечером он вошел ко мне пошатываясь и, теряя последние силы, рухнул в кресло. Он был бледен, измучен; от него оставалась одна тень. Он поднял на меня свои угасшие глаза и начал:
— Ах, Марк, каким погибельным приобретением оказались эти жестокие вирши. Они все время терзали меня, словно кошмар, днем и ночью, час за часом, вплоть до этой самой минуты. С тех пор как мы с тобой расстались, я мучаюсь, как грешник в аду. В субботу утром меня неожиданно вызвали телеграммой в Бостон, и я выехал с ночным поездом. Умер один из моих старых друзей, и я должен был исполнить его просьбу — сказать на его похоронах надгробное слово. Я занял свое место в вагоне и принялся за сочинение проповеди. Но я так и не пошел дальше вступительной фразы, потому что, как только поезд тронулся и колеса завели свое «та-та, тра-та-та! та-та, тра-та-та», так сейчас же эти проклятые вирши приспособились к стуку колес. Целый час я сидел и подгонял под каждое отдельное стуканье каждый отдельный слог. От этого занятия я так измаялся, будто колол дрова целый день. Голова у меня просто лопалась от боли. Мне чудилось, что я непременно сойду с ума, если буду так сидеть, поэтому я разделся и лег. Я растянулся на койке… ну, ты сам должен понять, что из этого вышло. Продолжалось все то же «тра-та, та-та, синий стоит, тра-та, та-та, восемь центов; тра-та, та-та, желтый стоит, тра-та, та-та, девять центов», — и пошло, и пошло, и пошло: «Режьте, чтобы видел пассажир дорожный». Сон? Ни в одном глазу. Приехал я в Бостон окончательно свихнувшимся. Насчет похорон лучше не спрашивай. Я делал все, что мог, но каждая торжественная фраза была неразрывно спутана и сплетена с «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно!» А самое плачевное было то, что моя дикция подчинилась размеренному ритму этих пульсирующих стихов, и я видел, как некоторые рассеянные слушатели мерно кивают в такт своими безмозглыми головами. И верь или не верь, Марк, дело твое, — я еще не добрался до конца, а уже все мои слушатели, сами того не зная, кивали торжественно и в унисон — все как один, даже гробовщик и факельщики. Договорив, я выскочил в прихожую в состоянии, близком к исступлению. И надо случиться такому счастью: я тут же наткнулся на старую деву, тетушку покойного, всю в слезах, — она только что приехала из Спрингфилда и опоздала в церковь. Тетушка громко зарыдала и начала:
— Ах, ах, он скончался, а я так и не повидалась с ним перед смертью!
— Да, — сказал я, — он скончался, он скончался, он скончался, — неужели эта мука никогда не прекратится?
— Ах, так вы его любили! Вы тоже любили его!
— Любил его! Кого его?
— Ах, его! Моего бедного Джорджа, моего несчастного племянника!
— Гм, его! Да… о да, да! Конечно, конечно! «Режьте, братцы…» О, эта пытка меня доконает!
— Благослови вас господь, сэр, за ваши сердечные слова. Я тоже страдаю от этой невозвратимой утраты! Скажите, вы присутствовали при его последних минутах?
— Да! Я… при чьих последних минутах?
— Его, нашего дорогого покойника.
— Да! О да, да, да! Полагаю, что да, думаю, что да. Не знаю, право! Ах да, конечно, я там был, да, да, был!
— Ах, как я вам завидую, как завидую! А его последние слова? Скажите же мне, скажите, ради бога, какие были его последние слова?
— Он сказал… он сказал… ох, голова моя, голова… Да, он все твердил: «Режьте, братцы, режьте, режьте осторожно!» Ах, оставьте меня, сударыня! Во имя всего святого, оставьте меня с моим безумием, с моей мукой, с моей пыткой! «Желтый стоит девять центов, красный стоит только три…», нет сил терпеть более. «Осторожней режь, смотри!»
Унылые глаза моего друга безнадежно взирали на меня в течение целой томительной минуты, затем он сказал с трогательным укором:
— Марк, ты ничего не говоришь. Ты не подаешь мне никакой надежды. Впрочем, боже мой, не все ли это равно, не все ли равно! Ты ничем не можешь мне помочь. Давно прошло то время, когда меня можно было утешить словами. Что-то подсказывает мне, что язык мой навеки осужден болтаться, твердя эти безжалостные стишонки. Вот, вот… опять на меня находит: «Синий стоит восемь центов, желтый стоит…»
Бормоча эти слова замирающим шепотом, мой друг постепенно затих и впал в транс, в блаженном небытии позабыв о своих страданиях.
Как же я спас его в конце концов от сумасшедшего дома? Я свел его в университет по соседству, и там он передал бремя преследовавших его стихов внимательным ушам несчастных, ничего не подозревавших студентов. И что же с ними стало теперь? Результаты настолько печальны, что лучше о них не рассказывать. Для чего же я об этом написал? Цель у меня была самая достойная, даже благородная. Я хотел предостеречь вас, читатель, на случай, если вам попадутся эти беспощадные вирши, — избегайте их, читатель, избегайте, как чумы!