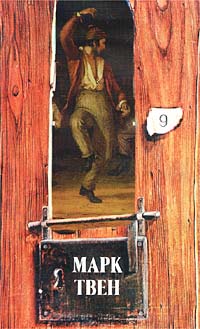КНИГА ВТОРАЯ
Глава I. Монастырь капуцинов. — Веселое общество мертвецов. — Чудесный Ватиканский музей. — Искусство под защитой Папы. — Римский табель о рангах божественных особ.
От кровавых забав святой инквизиции, от кровопролитий на арене Колизея, от мрачных склепов катакомб вполне естественно перейти к живописным ужасам монастыря капуцинов. Мы задержались на несколько минут в небольшой капелле монастырской церкви, чтобы полюбоваться картиной, на которой архангел Михаил побеждает Сатану, — картиной настолько прекрасной, что, по моему твердому убеждению, она принадлежит презираемому Ренессансу, хотя нам, если не ошибаюсь, сообщили, что ее написал один из ранних старых мастеров, —а затем спустились в обширный сводчатый склеп.
Замечательное зрелище для слабонервных! Очевидно, здесь поработали старые мастера. Огромный покой разделен на шесть помещений, каждое из которых украшено в своем стиле, — и все до единого украшения сделаны из человеческих костей! Мы видели изящные арки, возведенные из одних берцовых костей; удивительные пирамиды, сложенные из ухмыляющихся черепов; причудливые строения из голеней и предплечий; стены, украшенные искусными рисунками, на которых изящно изгибаются виноградные лозы из скрепленных человеческих позвонков с усиками из человеческих жил и сухожилий и цветами из коленных чашечек и ногтей. Каждая не подверженная разложению часть человеческого тела нашла свое место в этих сложных узорах (созданных, я полагаю, по замыслу Микеланджело), и тщательность, с которой была продумана и выполнена каждая деталь, говорила о несомненной любви художника к своей работе и о его высоком уменье. Я спросил у добродушного монаха, который сопровождал нас, кто все это создал. И он сказал: «Мы», имея в виду себя и братию наверху. Сразу было видно, что старик капуцин очень гордится своей редкостной коллекцией. Он говорил охотно, так как мы проявили живой интерес, чего никогда не позволяли себе с гидами.
— А кто все эти люди?
— Мы... наверху... монахи ордена капуцинов... мои братья.
— Сколько потребовалось усопших монахов, чтобы украсить так шесть комнат?
— Здесь кости четырех тысяч.
— И много времени понадобилось, чтобы накопить достаточно костей?
— Много, много веков.
— Их основательно рассортировали — черепа в одном месте, ноги — в другом, ребра — в третьем. Ну и суматоха здесь поднимется, когда загремит труба архангела! Некоторые братья могут в неразберихе ухватить чужую ногу и чужой череп, а потом будут хромать и глядеть на мир глазами, расставленными шире или уже, чем они привыкли. Наверное, вы не разбираетесь, кто здесь кто?
— О нет, я многих из них знаю. — Он коснулся пальцем одного из черепов. — Это был брат Ансельм... умер триста лет тому назад... хороший человек.
Он коснулся другого. — Это был брат Александр... умер двести восемьдесят лет тому назад. Это был брат Карло... умер примерно тогда же.
Затем он поднял один из черепов и, держа его в руке, задумчиво посмотрел на него, как шекспировский могильщик, повествующий о Йорике[114].
— Это, — сказал он, — был брат Фома. Он был молодым князем, отпрыском гордой семьи, которая могла проследить своих предков до славных дней древнего Рима — почти на две тысячи лет назад. Он полюбил девушку ниже себя по положению. Родные разгневались на него, и на девушку тоже. Они изгнали ее из Рима. Он кинулся за ней; он искал ее повсюду; он нигде не нашел ее следов. Он вернулся, возложил свое исстрадавшееся сердце на наш алтарь и посвятил свою разбитую жизнь служению Господу. Но слушайте. Вскоре после этого умер его отец, а затем и мать. Девушка, возрадовавшись, вернулась в Рим. Она всюду искала того, чьи глаза когда-то нежно смотрели на нее из этого бедного черепа, но не могла его найти. Наконец она на улице узнала его под грубой рясой, какие мы носим. Он узнал ее. Слишком поздно. Он упал как подкошенный. Его подняли и принесли сюда. Он больше не сказал ни слова. Через неделю он умер. Вы можете видеть по этой чуть выцветшей пряди, которая до сих пор сохранилась на виске, какого цвета были у него волосы. Это (поднимая берцовую кость) — тоже его. Прожилки листа в узоре над вашей головой были сто пятьдесят лет тому назад суставами его пальцев.
Он деловито иллюстрировал трогательную любовную историю, разложив перед нами несколько костей, оставшихся от влюбленного, и называя их, — это было таким чудовищным гротеском, какого мне еще не доводилось видеть. Я не знал, улыбаться мне или содрогаться от отвращения. Пользоваться бесстрастными физиологическими названиями и хирургическими терминами, описывая назначение и функции некоторых из мускулов и нервов нашего организма — святотатство. Именно это я почувствовал, слушая рассказ монаха. Представьте себе, что хирург своим пинцетом подцепляет и показывает сухожилия, мускулы и прочие части сложного организма трупа, говоря при этом:
«Вот этот небольшой нерв трепещет, вибрация передается вот этой мышце, отсюда она переходит на эту волокнистую ткань; здесь ее элементы разделяются благодаря химическому воздействию крови — одна их часть притекает к сердцу, раздражая его, что в просторечии называется чувством, другая вот по этому нерву следует к мозгу и сообщает ему неожиданные и неприятные сведения, а третья скользит по этому сосуду и касается пружинки, соединенной с наполненными жидкостью железами, которые лежат в уголке глаза. Посредством этого простого и изящного процесса субъект узнает о смерти своей матери и плачет».
Отвратительно!
Я спросил у монаха, все ли братья наверху предполагают попасть в этот склеп, когда умрут. Он спокойно ответил:
— Мы все будем лежать здесь.
Посмотрите, к чему можно привыкнуть! Мысль о том, что в один прекрасный день его разберут на части, как машину, часы или дом, покинутый владельцем, и превратят в арки, пирамиды и омерзительные рисунки, нисколько не угнетала монаха! Мне даже показалось, что он не без удовольствия думает о том, как хорошо будет выглядеть его череп на вершине кучи, и как его ребра придадут рисункам ту прелесть, которой им сейчас, быть может, еще не хватает.
Там и сям в изукрашенных нишах на ложах из костей лежали мертвые высохшие монахи, чьи тощие тела были одеты в черные сутаны, какие обычно носят священники. Одного из них мы рассмотрели поподробнее. Его костлявые руки были сложены на груди; два пучка потускневших волос прилипли к черепу; кожа побурела и съежилась, она туго обтягивала торчащие скулы; высохшие глаза глубоко ушли в глазницы; ноздри зияли, так как кончик носа отвалился; безгубый рот скалил желтые зубы — перед нами был окаменевший, сохранившийся в круговороте лет жуткий смех вековой давности!
Трудно вообразить что-нибудь более веселое и вместе с тем более страшное, чем этот смех. Наверное, подумал я, почтенный старец неплохо сострил, когда испускал последний вздох, если он до сих пор все еще смеется своей шутке.
У меня кружится голова при одной мысли о Ватикане — этом лабиринте статуй, картин и всевозможных редкостей всех времен и народов. Старые мастера (особенно в скульптуре) там так и кишат. Я не могу писать о Ватикане. Кажется, у меня не останется никаких ясных воспоминаний о том, что я там видел, за исключением мумий, «Преображения» Рафаэля и еще нескольких вещей, о которых сейчас говорить не стоит. Я буду помнить «Преображение» отчасти потому, что оно висит в особой комнате, отчасти потому, что его считают лучшей картиной мира, а отчасти потому, что оно прекрасно. Краски свежие и яркие, «экспрессия», как мне сказали, чудесная, «чувство» живое, «тон» хороший, «глубина» бездонная, а ширина на глаз — фута четыре с половиной. Эта картина покоряет; ее красота неотразима. Она так хороша, что могла бы принадлежать Ренессансу. То, что я написал несколько минут назад, наводит меня на мысль — на обнадеживающую мысль: не потому ли я обнаружил столько прелести в этой картине, что она не тонет в сумасшедшем хаосе остальных галерей? Если некоторые другие картины повесить отдельно, не окажутся ли и они прекрасными? Если бы и эту картину повесить в самую гущу полотен, теснящихся на стенах длинных галерей римских дворцов, — показалась бы она мне такой красивой или нет? Если бы до сих пор я видел в каждом дворце только одного старого мастера, а не целые акры стен и потолков, буквально оклеенных ими. — не сложилось ли бы у меня более цивилизованное мнение о старых мастерах? Пожалуй, да. Когда я был школьником, то, выбирая перочинный нож, я никогда не мог решить, какой ножик в витрине самый лучший, и ни один из них мне особенно не нравился, так что я делал свой выбор с тяжелым сердцем. Но когда я рассматривал свою покупку дома, где с моим ножиком не соперничали другие блестящие лезвия, я с удивлением обнаруживал, что он очень хорош. И по сей день мои новые шляпы, когда я выношу их из магазина, кажутся мне гораздо красивее, чем на прилавке, рядом с другими новыми шляпами. Меня вдруг осенило: может быть, то, что я считал в галереях общим безобразием, на самом деле все-таки было общей красотой? Искренне надеюсь, что другие видят это именно так, но я вижу по-другому. Быть может, я любил посещать Нью-Йоркскую академию изящных искусств потому, что в ней только несколько сот картин, и, осмотрев их все, я не успевал пресытиться. Мне кажется, что академия — это бобы со свининой в Сорокамильной пустыне, а любая европейская галерея — банкет из тринадцати блюд. Обед из одного блюда съедаешь без остатка, но тринадцать отбивают аппетит и не доставляют никакого удовольствия.
Впрочем, в одном я убежден. Несмотря на всех Микеланджело, Рафаэлей, Гвидо Рени и прочих старых мастеров, величественная история Рима так и не была запечатлена на холсте! Они написали столько пресвятых дев, столько Пап, столько святых чучел, что их хватило бы, пожалуй, для заселения всего рая, но кроме этого они не писали ничего. «Нерон, бренчащий на кифаре[115], пока пылает Рим»; убийство Цезаря; захватывающее зрелище сотни тысяч людей в Колизее, жадно вытягивающих шеи, чтобы получше рассмотреть, как два искусных гладиатора кромсают друг друга или как тигр прыгает на коленопреклоненного мученика, — все это и тысячи других событий, о которых мы читаем с живейшим интересом, можно найти только в книгах, а не в мусоре, оставленном старыми мастерами, которых, — о чем я вспоминаю с радостью, — уже нет в живых.
Правда, одну историческую сцену они увековечили и на холсте и в мраморе — только одну (из всех, прославленных историей). Но какую? И почему они выбрали именно ее? «Похищение сабинянок». А выбрали они ее ради ножек и бюстов.
Однако я люблю смотреть на статуи, и я также люблю смотреть на картины — даже изображающие монахов, которые в благочестивом экстазе поднимают очи горе, монахов, которые, погрузившись в размышления, опускают очи долу, и монахов, которые промышляют себе что-нибудь поесть, — и потому перестаю ворчать, чтобы поблагодарить папское правительство за ревностную охрану и прилежное накопление этих сокровищ и за позволение, данное мне, чужестранцу, и к тому же не вполне дружески настроенному, бродить среди них по своей воле и без всяких помех, за позволение данное даром и только с одним условием — вести себя так же прилично, как полагается вести себя в любом чужом доме. Я от всего сердца благодарю святейшего отца и желаю ему долгой жизни и много счастья.
Папы издавна были патронами и покровителями искусств, точно так же, как наша молодая практичная республика поощряет и поддерживает технику. В их Ватикане собрано все любопытное и прекрасное в искусстве; в нашем Бюро патентов хранится все любопытное или полезное в технике. Когда кто-нибудь изобретает новый тип шлеи или открывает новый, лучший способ передачи телеграмм, наше правительство выдает ему патент, который стоит целого состояния; когда кто-нибудь выкапывает в Кампанье античную статую, папа награждает его состоянием в золотой монете. Иногда можно понять характер человека по форме его носа. Ватикан и Бюро патентов — правительственные носы, и очень характерные.
Гид показал нам в Ватикане колоссальную статую Юпитера, которая, как он объяснил, так грязна и повреждена — настоящий бог бродяг — потому, что ее только недавно выкопали в Кампанье. Он спросил, во сколько мы оценили бы этого Юпитера. Я, со свойственной мне сообразительностью, ответил, что он стоит четыре доллара, может быть четыре с половиной. «Сто тысяч долларов!» — сказал Фергюсон. Фергюсон далее сообщил, что Папа не разрешает вывозить из своих владений произведения античного искусства. Для осмотра и оценки подобных находок он назначает комиссию. Затем Пана выплачивает нашедшему половину объявленной цены и забирает статую. Фергюсон сказал, что этот Юпитер был выкопан в поле, недавно купленном за тридцать шесть тысяч долларов, и, таким образом, новый владелец собрал недурной первый урожай. Не знаю, всегда ли Фергюсон говорит правду, но полагаю, что всегда. Я знаю, что вывоз картин старых мастеров облагается неслыханной пошлиной, чтобы воспрепятствовать продаже их в частные коллекции. Я убежден, что в Америке вряд ли найдутся подлинные старые мастера, так как самые заурядные и дешевые из них стоят дороже хорошей фермы. Я сам собирался купить один пустячок Рафаэля, но цена была восемьдесят тысяч долларов, а вместе с пошлиной это обошлось бы мне в сто с лишним тысяч долларов, так что я посмотрел, посмотрел — и решил не покупать.
Тут я хочу, пока не забыл, упомянуть одну надпись, которую мне случилось увидеть:
«Слава в вышних Богу, на земле мир и в человецех благоволение!» Кажется, это точно по Священному Писанию, и уж во всяком случае это католично и человечно.
Это начертано золотыми буквами вокруг апсиды мозаичной группы, сбоку от scala santa церкви св. Иоанна Латеранского — матери и госпожи всех католических церквей мира. Группа представляет Спасителя, святого Петра, Папу Льва, святого Сильвестра, Константина и Карла Великого. Петр подает Папе паллиум, а Карлу Великому — знамя. Спаситель подает ключи святому Сильвестру и знамя — Константину. К Спасителю никакой молитвы не обращено — в Риме он, видимо, не в почете; зато надпись внизу гласит: «Пресвятой Петр, ниспошли жизнь Папе Льву и победу королю Карлу». Там не сказано: «Будь ходатаем нам перед Спасителем, да испросит он для нас у отца эту милость», а сказано: «Пресвятой Петр, ниспошли ее нам».
Со всей серьезностью, отнюдь не легкомысленно, отнюдь не дерзновенно и, главное, отнюдь не богохульствуя, а просто делая выводы из виденного и слышанного мной, я утверждаю, что божественные особы почитаются в Риме в следующем порядке:
Во-первых — богородица, другими словами — дева Мария;
во-вторых — Бог-отец;
— в-третьих, — Петр;
— в-четвертых — около пятнадцати канонизированных Пап и мучеников;
в-пятых — Иисус Христос, Спаситель (но всегда в облике младенца).
Может быть, я не прав — мои суждения часто бывают ошибочными, так же как и суждения любого другого человека, — но, прав я или не прав, таково мое мнение.
Я хочу упомянуть здесь об одном любопытном явлении. В Риме нет «Христовых церквей» и нет «церквей Святого Духа» — по крайней мере мне они не попадались. Всего здесь около четырехсот церквей, но из них около четверти названы в честь мадонны или святого Петра. Церквей, названных в честь девы Марии, столько, что их — если я правильно понял — приходится различать по всевозможным добавлениям. Кроме того, имеются церкви св. Людовика, св. Августина, св. Агнессы, св. Каликста, св. Лоренцо в Лючине, св. Лоренцо в Дамазо, св. Цецилии, св. Афанасия, св. Филиппа Нери, св. Екатерины, св. Доминика и множества меньших святых, чьи имена почти неизвестны миру; и в самом конце списка, после всех церквей, есть две больницы; одна из них названа в честь Спасителя, а другая — в честь Духа Святого!
День за днем и ночь за ночью мы бродили среди разрушающихся чудес Рима; день за днем и ночь за ночью мы питались прахом и пылью двадцати пяти столетий, размышляли о них днем и видели их во сне ночью, пока наконец нам не стало казаться, что мы сами рассыпаемся в прах, утрачиваем одну за другой черты лица, теряем руки и ноги и в любую минуту можем стать добычей какого-нибудь антиквария, и тогда нам подштопают ступни, «реставрируют» нас, прибавив безобразный нос, неверно определят, неправильно датируют и поставят в Ватикане на веки вечные, чтобы поэты распускали слюни, а всяческие вандалы расписывались на нас.
Но лучший способ перестать писать о Риме — это перестать писать. Я хотел было написать об этом интереснейшем городе настоящую «главу из путеводителя», но не смог, потому что все время чувствовал себя, как мальчик в кондитерской лавке: глаза разбегаются, и не знаешь, что выбрать. Я исписал больше ста страниц, но так и не решил, с чего начать. Ну, так я вовсе не начну. Наши паспорта уже проверены. Мы едем в Неаполь.
Глава II. Неаполь. — Аннунциата. — Подъем на Везувий. — Монашеские чудеса. — Иностранец и извозчик. — Вид на ночной Неаполь с горного склона. — Подъем на Везувий (продолжение)
«Квакер-Сити» стоит здесь, в порту Неаполя, в карантине. Карантин длится уже несколько дней и кончится не раньше чем через неделю. Мы избежали этого несчастья, потому что приехали из Рима по железной дороге. Конечно, никому не разрешается посещать корабль или съезжать на берег. Сейчас «Квакер-Сити» — это тюрьма. Пассажиры, наверное, проводят долгие знойные дни, поглядывая из-под палубных тентов на Везувий, на красавец город и чертыхаясь. Представьте себе, каково провести в подобных занятиях десять дней! Мы каждый день подплываем к ним на лодке и приглашаем их на берег. Это их успокаивает. Мы покачиваемся в десяти шагах от корабля и рассказываем им, как чудесен город; и как хорошо кормят в здешних отелях — лучше, чем где-либо в Европе; и как там прохладно; и какие там подают глыбы мороженого; и как великолепно мы проводим время, совершая экскурсии по окрестностям и на острова залива. Это их умиротворяет.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ
Я долго буду помнить эту поездку на Везувий — отчасти потому, что это была интересная поездка, но главным образом потому, что она была очень утомительна.
Мы втроем отдыхали два дня среди мирной и красивой природы острова Искья, расположенного в восемнадцати милях от Неаполя; мы говорим — «отдыхали», но теперь я уже не помню, из чего состоял этот отдых, ибо, когда мы вернулись в Неаполь, оказалось, что мы не спим уже третьи сутки. Мы как раз собирались лечь пораньше и наверстать часть упущенного сна, когда услышали об этой экспедиции на Везувий. Нас набралось восемь человек, и нам предстояло выехать из Неаполя в полночь. Мы запаслись на дорогу провизией, наняли экипажи, которые должны были доставить нас в Аннунциату, и, чтобы не заснуть, решили побродить по городу до двенадцати часов. Мы тронулись в путь точно в назначенное время и через полтора часа добрались до городка Аннунциаты. Второй такой дыры на свете нет. В других итальянских городах жители, разлегшись на солнышке, спокойно дожидаются, пока вы не обратитесь к ним с вопросом или не совершите еще какой-нибудь поступок, за который с вас можно будет потребовать вознаграждение, но обитатели Аннунциаты лишены и этих остатков деликатности. Они хватают шаль, которую дама положила на стул, подают ее и требуют вознаграждения — медную монетку; они открывают перед вами дверцу экипажа и требуют вознаграждения; закрывают ее, когда вы вылезете, и требуют вознаграждения; они помогают вам снять плащ — два цента; чистят ваш костюм, от чего он становится только грязнее, — два цента; улыбаются вам — два цента; сняв шляпу, кланяются с заискивающей миной — два цента; они спешат сообщить вам всевозможные сведения, например что мулов сейчас приведут, — два цента; теплый день, синьор — два цента; подъем продолжается четыре часа — два цента. И так без конца. Они набрасываются на вас, пристают к вам, назойливо вьются вокруг, потеют и пахнут самым возмутительным образом. Они готовы на любые унизительные услуги, лишь бы за них платили. У меня не было возможности по личным наблюдениям составить мнение о высших классах, но я кое-что слышал о них, и, судя по всему, отсутствие у них некоторых скверных привычек, свойственных черни, с лихвой возмещается другими, еще худшими. Какие попрошайки эти итальянцы! А некоторые из них к тому же хорошо одеты.
Я сказал, что по собственным наблюдениям ничего дурного о высших классах сказать не могу. Я ошибся. То, что вчера вечером на моих глазах проделывал цвет их общества, — в других, более великодушных странах, по-моему, постыдились бы делать даже подонки. Зрители собрались сотнями — даже тысячами — в огромном театре Сан-Карло для... для чего? Для того, чтобы поиздеваться над старой женщиной, чтобы освистать, оскорбить, поднять на смех актрису, которой когда-то поклонялись, но чья красота теперь увяла, а голос потерял былую прелесть. Все говорили, что спектакль обещает быть очень интересным. Предсказывали, что театр будет набит битком, потому что поет Фредзолини. Нам объяснили, что теперь она поет плохо, но что публика ее все равно любит. И вот мы пошли. И всякий раз, когда она начинала петь, они свистели и смеялись — весь блистательный зал, — а как только она уходила со сцены, они вызывали ее аплодисментами. Дважды она бисировала по пять-шесть раз подряд, и каждый раз ее встречали свистом, а когда она заканчивала, провожали свистом и смехом, но тут же публика требовала повторения и сыпался новый град насмешек! С каким восторгом высокорожденные негодяи предавались этой потехе! Господа в белых лайковых перчатках и элегантные дамы смеялись до слез и восторженно рукоплескали, когда несчастная старуха покорно выходила в шестой раз, чтобы терпеливо выдержать новый ураган свиста! Это было так жестоко, так бессмысленно и бездушно! Если бы этот зал был заполнен американскими хулиганами, она покорила бы их своим мужественным, невозмутимым спокойствием (она бисировала снова и снова, улыбалась, любезно кланялась, пела как могла лучше, кланялась, уходила со сцены и, несмотря на непрерывный свист и насмешки, ни на минуту не теряла самообладания); и, разумеется, в любой другой стране, кроме Италии, ее пол и ее беспомощность послужили бы ей достаточной защитой — другой ей и не понадобилось бы. Сколько же мелких душонок набилось вчера в театр! Если бы директор театра мог собрать в своем зале только души неаполитанцев, без их тел, он нажил бы не менее девяноста миллионов долларов. Какой душой должен обладать человек, чтобы с удовольствием помогать трем тысячам подлецов освистывать, оскорблять и подымать на смех одинокую старуху, бесстыдно подвергать ее невыносимому унижению? Он должен обладать всеми скверными душевными качествами, какие только существуют. Мои наблюдения убеждают меня (я не рискую выходить за пределы личных наблюдений), что высшие классы Неаполя наделены этими качествами в избытке. В остальном это, возможно, очень хорошие люди; я не берусь судить.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
Неаполитанцы и по сей день глубоко верят одному из гнуснейших религиозных обманов, какие только существуют в Италии, — верят в чудесное разжижение крови святого Януария. Дважды в год попы собирают народ в храме и, выставив сосуд со свернувшейся кровью, показывают присутствующим, как она медленно расползается и становится жидкой. Этот жалкий фарс повторяется ежедневно в течение восьми дней; и пока он длится, священники обходят толпу и собирают плату за зрелище. В первый день кровь разжижается за сорок семь минут — храм переполнен, и надо дать сборщикам время сделать обход; затем с каждым днем, по мере того как сокращается число зрителей, она разжижается все быстрее и быстрее, и наконец на восьмой день, когда чудо уже не привлекает и сотни человек, она разжижается за четыре минуты.
Кроме того, до последнего времени здесь ежегодно устраивалась большая процессия: священники, горожане, солдаты, моряки и муниципальные советники отправлялись брить голову изображению мадонны — набитому и раскрашенному чучелу, похожему на манекен модистки, — волосы которого чудесным образом отрастали за двенадцать месяцев до прежней длины. Этот бритвенный обряд совершался еще лет пять-шесть тому назад. Он приносил большие доходы той церкви, которая владела этой замечательной мадонной, и церемония ее публичного бритья всегда проводилась с великим блеском и помпой — чем пышнее, тем лучше, так как чем больше был шум вокруг этого обряда, тем более многочисленная собиралась толпа и тем крупнее были доходы от него; но наконец пришел день, когда папа и его слуги оказались в немилости у неаполитанцев, и городские власти запретили ежегодные представления с участием мадонны.
Эти два примера хорошо характеризуют неаполитанцев — два глупейших обмана, которым одна половина жителей верит свято и безусловно, а другая либо тоже верит, либо молчит, способствуя таким образом мошенничеству. Я склонен думать, что неаполитанцы все верят в эти жалкие, дешевые чудеса, — люди, которые требуют два цента каждый раз, когда кланяются вам, люди, бесстыдно оскорбляющие женщину, по моему мнению, вполне на это способны.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
Эти неаполитанцы всегда запрашивают вчетверо, но если вы не торгуясь платите эту цену, им становится стыдно, что они так продешевили, и они немедленно запрашивают больше. Получение или выплата денег неизменно сопровождается бурной перебранкой и усиленной жестикуляцией. Стоит купить ракушек на два цента, и при этом непременно произойдет ссора и скандал. Один «конец» в пароконном экипаже стоит франк — это закон, но кучер под тем или иным предлогом всегда запрашивает больше, и если ему платят не торгуясь, тут же предъявляет новое требование. Рассказывают, что какой-то иностранец нанял в один конец одноконный экипаж; тариф — полфранка. В качестве опыта он дал кучеру пять франков. Тот потребовал еще — и получил еще франк. Он потребовал еще — и получил еще франк, потребовал еще — и получил отказ. Он стал настаивать, выслушал еще один отказ и принялся скандалить. Иностранец сказал: «Хорошо, верните мне семь франков, и тогда посмотрим», а когда получил деньги обратно, дал кучеру полфранка, и тот немедленно попросил два цента на водку. Могут подумать, что я предубежден. Не спорю. Мне было бы стыдно за себя, если бы я не был предубежден.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
Ну, как я уже говорил, проторговавшись с населением Аннунциаты полтора часа, мы наняли мулов и лошадей и, клюя носом, направились в гору; за хвост каждого мула держался бродяга, притворявшийся, что погоняет животное, хотя на самом деле он просто висел на нем. Сперва я продвигался очень медленно, но потом мне расхотелось платить пять франков моему провожатому за то, что он тянет моего мула за хвост и мешает ему взбираться по склону, и я уволил его. После этого я поехал быстрее.
Когда мы поднялись достаточно высоко, перед нами открылся великолепный вид на Неаполь. Мы, разумеется, видели только газовые фонари — полукруг по краю залива, алмазное ожерелье, поблескивающее вдали сквозь мрак, не такое яркое, как звезды над головой, но мягко переливающееся и гораздо более красивое; цепочки огней скрещивались и перекрещивались по всему городу, образуя прихотливые сверкающие узоры. А за городом, на обширной ровной кампанье, отмечая места, где во мраке прятались деревушки, были разбросаны ряды, круги и гроздья мерцающих, как драгоценности, огней. Примерно в эту минуту парень, который висел на хвосте лошади передо мной и без всякого повода то и дело терзал бедное животное, был отброшен копытом футов на двести пятьдесят; это происшествие в совокупности с волшебным зрелищем далеких огней привело меня в состояние безмятежного блаженства, и я был рад, что отправился на Везувий.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
Эта тема представляет собой великолепный материал для целой главы, которую я и напишу завтра или послезавтра.
Глава III Подъем на Везувий (продолжение). — Знаменитые места по берегам Неаполитанского залива. — Окаменевшее море лавы. — Подъем (продолжение). — На вершине. — Кратер. — Спуск с Везувия.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
«Увидеть Неаполь и умереть»[116]. Не думаю, что человек обязательно умрет только оттого, что увидит его; но если он попробует в нем поселиться, это может кончиться печально. Увидеть Неаполь так, как мы увидели его на рассвете со склона Везувия, — значит увидеть картину удивительной красоты. На этом расстоянии его грязные здания кажутся белыми, и ряд за рядом балконы, окна, кровли поднимаются все выше над морской синевой, пока наконец величественная белая пирамида не увенчивается огромным замком Сант-Эльмо, который придает всей картине гармоническую завершенность. А когда лилии Неаполя превратились в розы, когда он зарделся от первого поцелуя солнца, красоту его уже нельзя было описать никакими словами. В эту минуту можно было с полным правом сказать: «Увидеть Неаполь и умереть». И обрамление этой картины тоже было чарующим. Впереди — бесконечная многоцветная мозаика морской глади, и в отдалении — горделивые острова, купающиеся в сонной дымке; а с нашей стороны — величавая двойная вершина Везувия, его мощные черные отроги и лавовые потоки, спускающиеся к безграничным просторам ровной кампаньи — зеленого ковра, который пленяет взор и манит его за собой все дальше и дальше, мимо рощ, одиноких домиков, белоснежных деревушек, и заканчивается на горизонте смутной дымчатой бахромой. Именно отсюда, из «Эрмитажа» на склоне Везувия, следует «увидеть Неаполь и умереть».
Только не вступайте в пределы города и не рассматривайте его в подробностях, — это лишит его романтического ореола. Жители нечистоплотны, и поэтому улицы грязны, полны неаппетитных запахов и зрелищ. Неаполитанцы страшно предубеждены против холеры. На это, впрочем, у них есть все основания. Когда холера поражает неаполитанца, она с ним быстро разделывается, потому что, как вы сами понимаете, пока доктор раскопает грязь и доберется до болезни, пациент успевает скончаться. Высшие классы каждый день купаются в море и выглядят вполне прилично.
Улицы обычно достаточно широки, чтобы по ним могла проехать телега, и кишмя кишат людьми. Каждая улица, каждый двор, каждый проулок — это Бродвей! Бесконечные, густые, шумные, торопящиеся, суетливые толпы! Нам еще не приходилось видеть ничего подобного — даже в Нью-Йорке. Тротуары попадаются редко, и они так узки, что обойти встречного, не задев его, невозможно. Поэтому все ходят по мостовой, а там, где позволяет ширина улицы, по ней то и дело проносятся кареты. Почему каждый день под колеса не попадают тысячи прохожих, остается тайной, которую не может разгадать никто.
Если восьмое чудо света[117] существует, то это — жилые дома Неаполя. Честное слово, я убежден, что большинство здешних домов — в сто футов высотой! А сплошные кирпичные стены имеют толщину в семь футов. Прежде чем добраться до «второго» этажа, проходишь девять лестничных маршей. Ну, может быть, не девять, но что-то в этом роде. Окна, перед каждым из которых торчит птичья клетка балконных прутьев, уходят ввысь, в вечные облака, где находится крыша, и из каждого окна непременно кто-то выглядывает: люди нормального роста — из окон первого этажа, люди чуть поменьше — из окон второго, люди еще чуть поменьше — из окон третьего, и с каждым этажом они кажутся пропорционально все меньше и меньше, так что люди, выглядывающие из окон верхних этажей, больше всего похожи на ласточек, высунувшихся из очень высокого гнезда. Такая улица-ущелье, где вереницы высоких домов тянутся вдаль, сходясь на горизонте, как железнодорожные рельсы; где с бельевых веревок, пересекающих ее на всех высотах, свисают над людскими толпами знамена лохмотьев; где на железных балкончиках, рядами уходящих от тротуара под самые небеса, сидят одетые в белое женщины, — такая улица стоит того, чтобы рассмотреть Неаполь поподробнее.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
В Неаполе и его предместьях живет шестьсот двадцать пять тысяч человек, но я уверен, что он занимает не большую площадь, чем американский город с населением в сто пятьдесят тысяч. Впрочем, высотой он в три таких американских города — и в этом весь секрет. Замечу мимоходом, что контрасты между богатством и нищетой, великолепием и убожеством здесь разительнее даже парижских и встречаются чаще. В Париже приходится ездить в Булонский лес, чтобы увидеть модные туалеты, дорогие экипажи и пышные ливреи, и в предместье Сент-Антуан — чтобы увидеть порок, нищету, голод, лохмотья, грязь; но на улицах Неаполя все это слито воедино. Голые девятилетние мальчуганы — и разодетые дети богачей; лохмотья — и блестящие мундиры; запряженные ослами тележки — и роскошные кареты; нищие, князья, епископы толкутся бок о бок на каждой улице. Каждый вечер в шесть часов весь Неаполь отправляется кататься по Riviera di Chiaja[118] (что бы это ни значило), и в течение двух часов там можно наблюдать самую пеструю и самую смешанную процессию, какую только в силах представить себе человек. Князья (в Неаполе князей больше, чем полицейских; город просто наводнен ими), которые живут на седьмом этаже и не владеют никакими княжествами, голодают, но непременно держат экипаж; приказчики, ремесленники, модистки и проститутки отказывают себе в обеде и не жалеют денег, только бы прокатиться на извозчике по Кьяе; городская чернь набивается по двадцать — тридцать человек в ветхую тележку, запряженную осликом величиной с кошку, и тоже отправляется кататься по Кьяе; туда же съезжаются герцоги и банкиры в пышных каретах с разодетыми кучерами и лакеями, — вот как составляется эта процессия. В течение двух часов знатность и богатство, безвестность и бедность во всю прыть мчатся бок о бок в нелепой процессии, а потом разъезжаются по домам довольные, счастливые, торжествующие!
На днях я разглядывал великолепную мраморную лестницу королевского дворца, которая, как говорят, обошлась в пять миллионов франков, а по моему мнению, стоит никак не меньше пятисот тысяч. Я решил, что, наверное, очень приятно жить в стране, где существуют такие комфорт и роскошь. А потом я в задумчивости вышел на улицу и чуть не наступил на бродягу, который, сидя на краю тротуара, поедал свой обед — ломоть хлеба и гроздь винограда. Когда я узнал, что это травоядное работает приказчиком во фруктовой лавке (она была рядом с ним, в корзине) за два цента в день и что у него совсем нет дворца, восхищение, которое я испытывал, думая о прелестях итальянской жизни, несколько потускнело.
Это, естественно, наталкивает меня на мысль о здешних заработках. Лейтенанты в итальянской армии получают примерно доллар в день, а солдаты — несколько центов. Единственный конторщик, которого я знаю, получает четыре доллара в месяц. Печатники получают шесть с половиной; но я слышал о мастере, который получает тринадцать. Такие неожиданные и бешеные деньги, естественно, превратили его в надменного аристократа. Его высокомерие просто невыносимо.
Говоря о заработках, я не могу не упомянуть о здешних ценах. В Париже у Жувена дюжина лучших лайковых перчаток стоит двенадцать долларов, — здесь перчатки примерно того же качества продаются по три-четыре доллара дюжина. В Париже рубашки из тонкого полотна стоят пять-шесть долларов штука, — здесь и в Ливорно — два с половиной. В Марселе за хороший фрак, сшитый первоклассным портным, приходится платить сорок долларов, а в Ливорно за те же деньги можно приобрести целый костюм. Здесь можно купить прекрасный сюртук за десять или двадцать долларов, а в Ливорно за пятнадцать долларов можно купить пальто, которое в Нью-Йорке обошлось бы вам в семьдесят. Хорошие замшевые башмаки стоят в Марселе восемь долларов, а здесь — четыре. Лионский бархат ценится в Америке дороже генуэзского, однако большая часть лионского бархата, который вы покупаете в Соединенных Штагах, производится в Генуе, откуда его ввозят в Лион, где на него наклеивают лионские ярлыки, а затем экспортируют в Америку. В Генуе за двадцать пять долларов можно купить столько бархата, что из него в Нью-Йорке выйдет пятисотдолларовая накидка, — так мне говорили дамы. Понятно, что после всего этого мне, вполне естественно, вспоминается
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
что наталкивает меня на мысль о чудесном Голубом гроте. Он находится на острове Капри, в двадцати двух милях от Неаполя. Мы наняли пароходик и отправились туда. Конечно, к нам на борт явилась полиция и, прежде чем разрешить нам сойти на берег, проверила наше здоровье и выяснила наши политические взгляды. Важность, которую напускают на себя эти крохотные насекомообразные правительства, нелепа до смешного. На наш пароходик был даже прислан специальный полицейский, чтобы присматривать за нами, пока мы будем находиться в каприйских владениях. Здешние власти, очевидно, считали, что мы собираемся украсть грот. А украсть его стоило. Вход в пещеру — четыре фута в высоту и четыре фута в ширину. Он расположен в огромном отвесном утесе, который обрывается в море. Туда ездят на маленьких лодочках, и протиснуться сквозь входное отверстие не так-то просто; во время прилива туда вообще нельзя попасть. Очутившись внутри, вы оказываетесь в сводчатой пещере длиной в сто шестьдесят футов, шириной в сто двадцать и высотой в семьдесят. Ее глубины не знает никто. Пещера тянется до морского дна. Воды этого тихого подземного озера отливают изумительной лазурью. Они прозрачны, как зеркальное стекло, а их цвет посрамил бы ярчайшее итальянское небо в самый солнечный день. Трудно вообразить более чарующий оттенок, более великолепное свечение. Стоит бросить в воду камешек, и мириады ослепительных пузырьков засверкают, как голубой бенгальский огонь. Стоит погрузить в воду весло, и оно засияет чудесным матовым серебром, отливающим голубизной. Человек, прыгнувший в воду, мгновенно одевается такой великолепной броней, какой не было ни у одного из королей-крестоносцев.
Затем мы поехали на Искью, но я уже побывал там раньше и устал до смерти, «отдыхая» двое суток и изучая на хозяине гостиницы «Гранде Сентинелле» глубины человеческого злодейства. Поэтому мы отправились на Прочиду, а оттуда в Поццуоли[119], где высадился святой Павел, приплыв с Самоса. Я сошел на берег точно в том же месте, где когда-то сходил святой Павел, и Дэн и все остальные — тоже. Это было замечательное совпадение. Прежде чем отправиться в Рим, святой Павел семь дней проповедовал перед здешними жителями.
Баньи-ди-Нероне, развалины Байи[120], храм Сераписа[121], Кумы, где кумская сивилла[122] толковала пророчества оракулов, озеро Аньяно[123], в глубинах которого еще виден древний затопленный город, — все это, а также множество других интересных мест мы осмотрели с видом недоверчивых идиотов, но больше всего нас влекла Собачья пещера, потому что мы столько слышали и читали о ней. Кто только не писал о Гротта-дель-Кано и его ядовитых испарениях, начиная от Плиния и кончая Смитом! Каждый турист, держа собаку за ноги, опускал ее к полу, чтобы проверить свойства этой пещеры. Собака околевает через полторы минуты, курица — мгновенно. Как правило, иностранцы, которые устраиваются там на ночлег, не просыпаются, пока их не окликнут. Но и тогда они тоже не просыпаются. Иностранец, который рискнет заснуть там, заключает бессрочный контракт. Я жаждал увидеть эту пещеру. Я твердо решил взять собаку и самому подержать ее над полом, отравить ее немного и засечь время, отравить ее еще и прикончить. Мы добрались до пещеры около трех часов и немедленно принялись за опыты. Но тут же столкнулись с непредвиденным препятствием: у нас не было собаки.
ПОДЪЕМ НА ВЕЗУВИЙ (продолжение)
«Эрмитаж» находится на высоте в полторы-две тысячи футов над уровнем моря, и подъем к нему очень крут. Следующие две мили дорога была весьма неровной — подъем был то крутым, то пологим, но в одном отношении она не менялась: на всем протяжении неуклонно, неизменно, без малейших вариаций она была одинаково и невыразимо отвратительна. Мы ехали по еле заметной узкой тропе через древний лавовый поток — через черный океан, застывший в тысячах фантастических форм; дикий хаос разрушения, уныния и бесплодия, лабиринт ребристых волн, бешеных водоворотов, разорванных пополам миниатюрных гор, исковерканных, узловатых, сморщенных и скрученных черных масс, напоминавших клубки корней, мощные лозы, древесные стволы, перепутанные и перемешанные между собой, — и все эти словно порожденные кошмаром фигуры, вся эта бушующая панорама, вся эта бурлящая, широко раскинувшаяся черная пустыня, исполненная пугающего подобия жизни, действия, кипения, борения, яростного движения, — все это было каменным! Холод и смерть поразили этот хаос в миг самой бешеной пляски, сковали его, парализовали и бросили, чтобы он вечно грозил небесам в бессильной ярости!
Наконец мы очутились в ровной узкой долине, где по обеим сторонам высятся две обрывистые вершины Везувия. Та, на которую нам предстояло взобраться, — та, где действующий вулкан, — на глаз достигала тысячи футов в высоту и была такой отвесной, что казалось, ни один человек не может на нее вскарабкаться, а уж мул со всадником тем более. Четверо местных пиратов, если вы пожелаете, втащат вас наверх на носилках; но предположим, что они поскользнутся и вы покатитесь вниз, — где вы остановитесь? Пожалуй, только по ту сторону вечности. Мы слезли с мулов, наточили ногти и без двадцати шесть утра начали подъем, о котором я так давно пишу. Тропинка вела прямо вверх по неровной осыпи обломков пемзы, и мы, сделав два шага вверх, соскальзывали на один вниз. Она была так крута, что через каждые пятьдесят — шестьдесят шагов мы должны были останавливаться и отдыхать. Нам приходилось смотреть прямо вверх, чтобы увидеть своих товарищей, идущих впереди, и прямо вниз, чтобы увидеть тех, кто шел позади. Наконец мы добрались до вершины — на это потребовалось час пятнадцать минут.
Там мы увидели круглый кратер — или, если угодно, кольцевую канаву — глубиной футов в двести и шириной около пятисот; его внутренняя стенка имеет около полумили в окружности. В центре этой гигантской цирковой арены виднеется обрывистый зубчатый бугор в сто футов высоты, сплошь покрытый серной коркой, отливающей множеством ярких красок, и канава окружает его, как замковый ров, или обегает его, как речка островок, если такое сравнение более удачно. Сера, густым слоем покрывающая этот остров, переливалась всеми цветами радуги, смешавшимися в хаос красок — красных, синих, коричневых, черных, желтых, белых; здесь были представлены, насколько я мог судить, все оттенки, все сочетания цветов; и когда солнце, разорвав утренний туман, озарило это пестрое великолепие, бугор заблистал, словно осыпанная драгоценными каменьями корона, венчающая царственный Везувий!
Сам кратер — ров — был окрашен не столь разнообразно, но благодаря мягкости, сочности и изящной простоте своих тонов он еще более привлекал и чаровал взоры. В его аристократической элегантности не было ничего кричащего. Красив ли он? Можно неделю смотреть на него не уставая. Он напоминает прекрасный луг, на котором бледная зелень припудренных сияющей пылью нежных трав и бархатистых мхов постепенно переходит в самый темный оттенок апельсинового листа, затем сгущается в коричневый, выцветает в оранжевый, сменяется ярко-золотистым и растворяется в пленительном багрянце только что распустившейся розы. Там, где на этом лугу виднелись торосы, словно на ледяном поле, или провалы, зазубренные края первых и зияющие пропасти вторых были одеты кружевами нежноокрашенных кристалликов серы, которые превращали их уродливые изломы в формы, полные изящества и красоты.
Стенки кратера переливались желтизной сернистых отложений, разноцветной лавой и пемзой. Огня нигде не было видно, однако каждый порыв ветра доносил до нас запах серных паров, которые невидимо и неслышно пробивались сквозь тысячи трещин и трещинок в кратере. Но мы закрывали носы платками, и опасность задохнуться нам не грозила.
Кое-кто из нашей компании зажигал длинные полоски бумаги, засовывая их в отверстия, и таким образом гордо прикуривал сигару от пламени Везувия, а другие пекли яйца над трещинами и были счастливы.
Вид с вершины был бы великолепен, если бы не туман, сквозь который солнце пробивалось лишь изредка. Поэтому мы только урывками могли любоваться величественной панорамой, открывавшейся внизу, что было весьма досадно.
СПУСК
На спуск с горы понадобилось только четыре минуты. Вместо обрывистой тропы, по которой мы поднимались, мы выбрали другую, засыпанную толстым слоем пепла, и спускались гигантскими шагами, успешно соперничая с владельцем семимильных сапог.
Везувий в наши дни — не такое уж удивительное чудо, если сравнить его с могучим вулканом Килауэа на Сандвичевых островах, но я рад, что побывал на нем.
Говорят, что во время одного из больших извержений Везувий выбрасывал огромные глыбы, весившие много тонн, на тысячу футов вверх, что чудовищные столбы пара и дыма вздымались к небесам на тридцать миль, а пепел тучами разносился повсюду и падал на палубы кораблей, находившихся в семистах пятидесяти милях от вулкана! С некоторой скидкой я возьму пепел, если кто-нибудь согласится взять тридцать миль дыма, но принять всю историю по нарицательной стоимости я не решаюсь.
Глава IV. Погребенный город Помпея. — Судилище. — Запустение. — Следы умерших. — Скелеты, сохранившиеся благодаря золе и пеплу. — Стойкий мученик долга. — Недолговечность славы.
ПОГРЕБЕННЫЙ ГОРОД ПОМПЕЯ[124]
Это название произносится здесь «Пом-пей-и». Я всегда думал, что в Помпею спускаются с факелами по сырой темной лестнице, как, скажем, в серебряные рудники, и бродят но мрачным туннелям, где над головой лава, а но сторонам какие-то полуразвалившиеся, выковырянные из слежавшейся земли темницы, которые отдаленно напоминают дома. Оказалось, ничего подобного. Больше половины погребенного города раскопано и совершенно открыто дневному свету; длинные ряды крепких кирпичных домов (без крыш) стоят, нагретые пылающим солнцем, как они стояли восемнадцать столетий тому назад; полы в них чисто выметены, и по-прежнему ярка сохранившаяся без единого изъяна мозаика, запечатлевшая цветы, зверей и птиц, которых мы теперь изображаем на недолговечных коврах; по-прежнему Венеры, Вакхи и Адонисы предаются любви и пьянству на многоцветных фресках, покрывающих стены гостиных и спален; узкие мостовые и узенькие тротуары, вымощенные плитами из добротной твердой лавы, все еще сохраняют глубокие выбоины — первые от колес повозок, а вторые от тысяч ног, ступавших по ним в давно прошедшие времена; целы пекарни, храмы, суды, бани, театры; все здесь чисто прибрано и аккуратно, и ничто не напоминает серебряный рудник в недрах земли. Лежащие там и сям разбитые колонны, входы, лишенные дверей, и лабиринт стен с осыпавшимся верхом — все показалось мне удивительно похожим на пожарище в каком-нибудь из наших городов; и если бы тут были обуглившиеся балки, разбитые стекла, кучи мусора и покрывающая все черная копоть, сходство было бы полным. Но нет — солнце заливает древнюю Помпею таким же ярким светом, как в те дни, когда в Вифлееме родился Христос, а улицы города в сто раз чище, чем их видели помпейцы в годы его расцвета. Я знаю, что говорю, — разве не видел я собственными глазами, что на главных улицах города (Торговой улице и улице Фортуны) мостовая не чинилась по крайней мере двести лет и что в толстых плитах мостовой колесами повозок, принадлежавших поколениям и поколениям обжуленных налогоплательщиков, были выбиты колеи в пять и даже в десять дюймов глубиной? И разве эти признаки не говорят достаточно ясно, что помпейские инспекторы по благоустройству города забывали о своих обязанностях и что раз они не чинили мостовые, то они их и не убирали? И кроме того — разве каждому инспектору по благоустройству города не присуща с рождения склонность отлынивать от своих обязанностей? Хотел бы я знать фамилию последнего из занимавших эту должность в Помпее, чтобы проклясть его память. Эга тема так задевает меня за живое потому, что я чуть не вывихнул ногу в такой колее, и грусть, охватившая меня, когда я увидел первый жалкий скелет, к которому пристали пепел и лава, была сильно смягчена мыслью, что это, быть может, останки инспектора по благоустройству города.
Нет, Помпею не назовешь погребенным городом. Это город многих сотен домов, лишенных крыш, и лабиринта улочек, в котором без проводника легко заблудиться, — и тогда придется ночевать в каком-нибудь населенном призраками дворце, где с той ужасной ноябрьской ночи вот уже восемнадцать столетий не было живых обитателей.
Мы прошли через ворота, выходящие на Средиземное море (их называют «Морскими воротами»), миновали запыленную, разбитую статую Минервы, все еще неусыпно охраняющую город, который она была бессильна спасти, и по длинной улице добрались до форума правосудия. Пол здесь ровен и чист, а по правую и левую руку тянутся разбитые колонны благородного портика, рядом с которыми лежат их красивые ионические и коринфские капители. В дальнем конце стоят пустые судейские кресла, а за ними — лестница; по ней мы спустились в темницу, где в ту памятную ноябрьскую ночь зола и пепел настигли двух прикованных к стене узников и предали их мучительной казни. Как они, должно быть, рвались из безжалостных цепей, когда вокруг них забушевало пламя!
Затем мы бродили по пышным особнякам, куда раньше, когда в них еще жили их владельцы, мы не смогли бы попасть без приглашения на непонятном латинском языке, — а его мы, вероятно, не получили бы. Эти люди строили свои дома примерно по одному образцу. Полы делались из разноцветного мрамора со сложными мозаичными узорами. У входа иногда видишь латинское приветствие или изображение собаки с надписью: «Берегись собаки», а иногда изображение медведя или фавна без всякой надписи. Затем попадаешь во что-то вроде вестибюля, где, как я полагаю, находилась вешалка для шляп, а затем в комнату с большим мраморным бассейном посредине и трубами для фонтана, по обеим сторонам ее — спальни, за фонтаном — гостиная, за ней — садик, столовая и так далее. Полы все мозаичные, стены оштукатурены, расписаны или украшены барельефами; там и сям виднелись большие и маленькие статуи, крохотные бассейны для рыб, а из тайников в красивой колоннаде вокруг двора вырывались сверкающие водяные каскады, освежавшие цветы и охлаждавшие воздух. Помпейцы, несомненно, очень любили роскошь и комфорт. Среди бронзовых изделий, которые нам довелось увидеть в Европе, лучшие найдены при раскопках Геркуланума и Помпеи, так же как и прекраснейшие камеи и изысканные геммы; здешние картины, которым уже девятнадцать веков, часто гораздо приятнее прославленных кошмаров, вышедших из-под кисти старых мастеров всего триста лет назад. Искусство здесь было в расцвете. После того как в первом веке были созданы эти шедевры, и вплоть до одиннадцатого искусство, казалось, прекратило свое существование — по крайней мере от него не осталось никаких следов, — и странно видеть, насколько (во всяком случае в некоторых отношениях) эти древние язычники превзошли грядущие поколения художников. Статуи, которыми больше всего гордится мир, — это находящиеся в Риме «Лаокоон» и «Умирающий гладиатор». Они стары, как Помпея, были выкопаны из земли, как Помпея, и можно только догадываться, сколько им столетий и кто их создал. Но и старые, потрескавшиеся, лишенные истории, покрытые пятнами, которые оставили на них бесчисленные века, они все-таки отвечают немой насмешкой на все попытки повторить их совершенство.
Так странно и необычно было бродить по безмолвному городу мертвых, по древним пустынным улицам, где некогда тысячи людей покупали и продавали, гуляли и ездили верхом, где всюду царили шум, оживленное движение и веселье. Эти люди не были ленивы. В те дни умели беречь время. У нас есть тому доказательства. На одном углу стоит храм, и с одной улицы на другую можно попасть либо обойдя его, либо напрямик — через колоннаду; и в каменных плитах иола протоптана дорожка, которая становилась все глубже с каждым поколением экономивших время людей, — они не ходили кругом, когда ближе было идти напрямик.
Всюду видны свидетельства того, как стары были эти старые дома в ночь катастрофы, — свидетельства, которые воскрешают перед вами давно умерших жителей города. Например, ступеньки (лавовые плиты толщиной в два фута), ведущие из школы, и такие же ступеньки, ведущие в верхний ряд самого большого городского театра, почти совершенно истерты! Век за веком из этой школы торопливо выбегали мальчуганы, век за веком их родители торопливо входили в театр, и спешащие ноги, которые стали прахом восемнадцать столетий назад, оставили эту запись, которую мы читаем сегодня. Мне почудилось, что в театр толпою входят благородные господа и дамы с билетами на нумерованные места в руках, и я прочел висевшее на стене воображаемое, но безграмотное объявление: «Никаких контрамарок, кроме представителей прессы!» У входа, божась и ругаясь, околачивались (фантазировал я) помпейские уличные мальчишки, выжидавшие удобной минуты, чтобы проскочить внутрь. Я вошел в театр, сел на одну из длинных каменных скамей амфитеатра, оглядел площадку для оркестра, разрушенную сцену, огромный полукруг пустых лож и подумал: «Никакого сбора». Я пытался вообразить, что музыка гремит вовсю, дирижер размахивает палочкой, а «высокоталантливый» имярек (который «только что вернулся из весьма успешного турне по провинции для прощальных гастролей, — только шесть выступлений на помпейских подмостках, — после чего он отбудет в Геркуланум») мечется по сцене и рвет страсть в клочья, — но при таком сборе воображение отказывалось мне служить: пустые скамьи безжалостно возвращали меня к действительности. Я сказал себе, что люди, которым следовало бы заполнить их, умерли, рассыпались в прах, смешались с землей много веков назад, и их больше не влекут пустые забавы и суета жизни. «Ввиду непредвиденных обстоятельств и т. д. И т. д., сегодняшнее представление не состоится». Опустите занавес. Гасите огни.
Мы повернули и пошли по длинной Торговой улице, переходя из лавки в лавку, со склада на склад, мысленно требуя товары Рима и Востока, по купцы умерли, рынок молчал, на прилавках не было ничего, кроме разбитых кувшинов, впаянных в окаменевший пепел и золу, а вино и масло, некогда наполнявшие их, исчезли вместе с их владельцами.
В пекарне сохранилась мельничка для размола зерна и печи для выпечки хлеба; и говорят, что в этих печах люди, раскапывавшие Помпею, нашли хорошо пропеченные булки, которые пекарь не успел вынуть перед тем, как покинуть свое заведение, так как обстоятельства вынуждали его торопиться.
В одном из домов (единственном здании Помпеи, куда теперь не допускаются женщины) много маленьких комнатушек и коротких каменных кроватей, которые время совсем не изменило, а картины на стенах сохранились так хорошо, что кажется, будто художник создал их только вчера; но ни у какого пера не хватит дерзости описать их; там и сям видны латинские надписи — непристойные блестки остроумия, начертанные руками, которые, возможно, еще до истечения ночи были среди огненной бури воздеты к небу с мольбой о спасении.
На одной из главных улиц находится цистерна с желобом, по которому в нее стекала вода, и там, где усталые, разгоряченные труженики из кампаньи клали правую руку, когда нагибались, чтобы приблизить губы к желобу, в твердом камне образовалась широкая выемка глубиной дюйма в два. Подумайте, сколько тысяч рук должно было коснуться этого места в давнопрошедшие века, чтобы оставить след на камне, который тверже железа!
В Помпее имелась большая общественная доска для объявлений, на которой помещались афиши о гладиаторских играх, о выборах и тому подобном, — афиши не на непрочной бумаге, но вырезанные на вечном камне. Некая дама — богатая, я полагаю, и строгих правил — объявляла о сдаче внаем дома с ваннами и со всеми новейшими удобствами и нескольких сот лавок, с непременным условием, что эти здания не будут использованы для безнравственных целей. Легко можно узнать имена владельцев многих домов, потому что к дверям прикреплены каменные таблички; точно так же вы узнаёте фамилию того, кто лежит в могиле. Всюду предметы, которые повествуют об обычаях и жизни этих забытых людей. А что осталось бы от американского города, если бы какой-нибудь вулкан засыпал его пеплом? Ни знака, ни приметы, которые могли бы поведать о нем.
В одном из длинных помпейских вестибюлей был найден скелет человека с десятью золотыми монетами в одной руке и большим ключом в другой. Он схватил свои деньги и кинулся к дверям, но огненная буря застигла его на самом пороге, он упал и погиб. Еще одна бесценная минута, и он успел бы спастись. Я видел скелеты мужчины, женщины и двух девочек. Руки женщины широко раскинуты, как будто в смертельном ужасе, и мне показалось, что на ее лице еще можно прочесть безумное отчаяние, исказившее его, когда столько веков тому назад небеса обрушили на эти улицы огненный дождь. Девочки и мужчина лежат ничком, как будто они пытались защитить лицо от заносившего их жгучего пепла. В одном доме было найдено восемнадцать скелетов в сидячем положении, и пятна копоти на стенах, словно тени, до сих пор сохраняют форму их тел. На шейных позвонках одного из них — женского — было найдено ожерелье, на котором вырезано имя владелицы — Юлия ди Диомеда.
Но, пожалуй, из всего, что открыли современные раскопки в Помпее, наиболее романтична величавая фигура римского воина в полном вооружении, который, не изменив долгу, не посрамив гордого имени солдата Рима, исполненный сурового мужества, прославившего это имя, не дрогнув оставался на посту у городских ворот, пока бушевавший вокруг ад не выжег бесстрашный дух, не склонившийся пред ним.
Когда мы читаем о Помпее, мы всегда вспоминаем этого солдата; когда мы пишем о Помпее, мы не можем удержаться и не воздать ему должное. Вспомним же, что он был солдатом — не полицейским, — и поэтому восхвалим его. Он был солдатом — и остался на посту, потому что доблесть воина мешала ему обратиться в бегство. Будь он полицейским, он тоже остался бы — потому что спал бы крепким сном.
В Помпее не найдется и шести лестниц, и нет никаких других доказательств, что дома там строились выше одного этажа. Здешние жители не селились в облаках, как современные венецианцы, генуэзцы и неаполитанцы.
Мы вышли из таинственного города седой старины, из города, погибшего вместе со своими древними, чуждыми нам нравами и обычаями в незапамятные времена, когда апостолы проповедовали новую веру, которая теперь представляется нам старой, как мир; в задумчивости мы отправились бродить под деревьями, растущими на бесчисленных акрах еще погребенных улиц и площадей, как вдруг резкий свисток и возглас: «По вагонам — последний поезд в Неаполь!» заставили меня очнуться, напомнив, что я человек девятнадцатого столетия, а не пыльная мумия под корой золы и пепла восемнадцативековой давности. Переход был очень резок. Железная дорога до древней мертвой Помпеи и непочтительно свистящий, шумно и деловито сзывающий пассажиров паровоз производили крайне странное впечатление — и столь же прозаическое и неприятное, как и странное.
Сравните этот безмятежный солнечный день с теми ужасами, которые видел здесь Плиний Младший[125] девятого ноября 79 года нашей эры, когда он с таким мужеством старался вынести свою мать в безопасное место, а она с истинно материнским самоотвержением умоляла его бросить ее и спасаться самому:
«К этому времени мутный мрак так сгустился, что казалось, будто наступила черная безлунная ночь или что мы попали в комнату, где погашены все светильники. Повсюду слышались причитания женщин, плач детей и крики мужчин. Один звал отца, другой — сына, третий — жену, но только по голосам они могли узнать друг друга. Многие в отчаянии молили о смерти, которая окончила бы их страдания.
Иные взывали к богам о спасении, иные считали, что настала последняя, вечная ночь, которая должна поглотить вселенную!
Так думал и я, и перед лицом приближающейся смерти я утешался мыслью: «Узри — вот конец мира!»
Побродив среди величественных развалин Рима, Байи, Помпеи, наспех осмотрев длинные ряды изуродованных и безыменных императорских бюстов в галереях Ватикана, я с новой силой почувствовал, как эфемерна и непрочна слава. В древности люди жили долго и всю жизнь трудились, не зная отдыха, как рабы, лихорадочно стремясь преуспеть в красноречии, в военном искусстве или в литературе, а потом расставались с жизнью в счастливом сознании, что имя их бессмертно и память о них сохранится вечно. Проносится двадцать кратких веков — и что остается от всего этого? Растрескавшаяся надпись на каменной плите, над которой обсыпанные табаком археологи ломают голову, путаются, и наконец разбирают только имя (которое читают неверно), лишенное истории, поэтических преданий и поэтому не возбуждающее и мимолетного интереса. Что останется от славного имени генерала Гранта[126] через сорок столетий? В Энциклопедии 5868 года, возможно, будет написано:
«Урия С. (или З.) Граунт — популярный древний поэт в ацтекских провинциях Соединенных Штатов Британской Америки. Некоторые исследователи относят расцвет его творчества к 742 г. н. э.; однако знаменитый ученый А-а Фу-фу утверждает, что он был современником Шаркспайра, английского поэта, и относит время его расцвета к 1328 г. н. э. — через три века после Троянской войны, а не до нее. Он написал «Убаюкай меня, мама».
От этих мыслей мне становится грустно. Я иду спать.
Глава V. Стромболи. — Сицилия в лунном свете. — Мы огибаем Греческие острова. — Афины. — Акрополь. — Неудача. — Среди величественных памятников старины. — В мире разбитых статуй. — Волшебный вид. — Прославленные места.
Снова дома! Впервые за много недель на юте собралось и обменивается приветствиями все наше многочисленное семейство. Путешественники побывали в разных краях, в разных странах, но никто не отстал дорогой, все живы-здоровы, ничто не омрачает встречи. Снова вся паства в полном составе высыпала на палубу послушать дружные крики матросов, поднимающих якорь, послать прощальный привет остающемуся за кормой Неаполю.
Опять за обедом все места заняты, все любители домино в сборе, и на залитой лунным светом верхней палубе шумно и оживленно, как в доброе старое время; прошло всего несколько недель, но они были так полны приключений, происшествий, неожиданностей, что кажется — пронеслись годы. На борту «Квакер-Сити» жизнь бьет ключом. На сей раз на корабле нет ничего квакерского.
В семь часов вечера, когда затонувшее солнце еще золотило горизонт, и вдали на западе чернели крохотные точки кораблей, и полная луна плыла высоко над головой, а море стало иссиня-черным, в причудливом свете заката, в смешении ярких красок, света и тьмы мы увидели великолепный Стромболи. Как величественно вставал из моря этот одинокий царь островов! Даль окутала его темным пурпуром, мерцающим покровом тумана смягчила суровые черты, и мы видели его словно сквозь паутину серебряной дымки. Факел его погас, огонь едва тлел где-то в глубине, и лишь столб дыма, поднимавшийся высоко в небо и таявший в лунном свете, один свидетельствовал, что перед нами живой самодержец моря, а не призрак мертвого владыки.
В два часа ночи мы вошли в Мессинский пролив и в ослепительном свете луны берег Италии по левую руку и Сицилийский по правую были так отчетливо видны, словно мы проезжали неширокой улицей. Мессина, молочно-белая, вся в звездной россыпи газовых фонарей, была сказочно прекрасна. Почти все пассажиры собрались на палубе, курили, громко разговаривали, всем не терпелось увидеть знаменитые Сциллу и Харибду[127]. Явился и Оракул со своей неизменной подзорной трубой, и вот он уже высится на палубе, словно новый Колосс Родосский. Мы никак не ожидали увидеть его на палубе в столь поздний час. Никто не думал, что его занимают такие древние легенды, как легенда о Сцилле и Харибде.
— Послушайте, доктор, — обратился к нему один из нас, — что вы здесь делаете среди ночи? Вас-то что интересует?
— Меня? Плохо же вы меня знаете, молодой человек, если задаете мне такие вопросы. Я хочу увидать все места, которые упоминаются в Библии, все до одного.
— Чепуха... Это место вовсе не упоминается в Библии.
— Не упоминается в Библии! Это место не... Ну, если уж вы так хорошо все знаете, скажите мне, что это за место?
— Извольте, это Сцилла и Харибда.
— Сцилла и Хар... Тьфу пропасть! Я-то думал — это Содом и Гоморра.
И, сложив подзорную трубу, он отправился вниз. Этот случай стал на корабле притчей во языцех. Правда, вполне возможно, что все это лишь досужий вымысел, ибо Оракул вовсе не интересовался святыми местами и не изучал специально географию тех мест, о которых говорится в Священном Писании. Говорят, недавно, в самую жару, Оракул жаловался, что у нас на корабле один только сносный напиток — масло. Он, конечно, не то хотел сказать, но, поскольку у нас уже нет льда и масло растаяло, будет только справедливо заметить, что в кои-то веки Оракул правильно употребил слово, состоящее из целых трех слогов. Сказал же он в Риме, что папа хоть и почтенный с виду поп, но его Илиада немногого стоит[128].
Весь день мы шли мимо Греческих островов и любовались берегами. Острова гористые, крутые склоны их то серые, то красновато-бурые. Белые деревушки прячутся в долинах среди деревьев или ленятся на отвесных прибрежных скалах.
Закат был прекрасен — небо на западе залилось алым румянцем, и пунцовый отблеск лег на море. Яркие закаты редкость в этих широтах, во всяком случае такие ослепительные. Обычно они здесь прелестные, мягкие, чарующие, от них веет изысканностью, утонченностью, изнеженностью. Ни разу мы не видели здесь таких многоцветных пожаров, какие пылают в нашем северном небе, отмечая путь уходящего солнца.
Но что нам солнечные закаты, когда, сгорая от нетерпения, мы предвкушаем встречу с самым прославленным городом мира! Что нам пейзажи, когда перед нашим внутренним взором торжественно шествуют Агамемнон, Ахиллес и еще сотни великих героев легендарного прошлого! Что нам закаты — нам, готовым вступить в древний город Афины, дышать его воздухом, жить его жизнью, погрузиться в глубь веков, покупать рабов на рыночной площади — Платона и Диогена[129], или судачить с соседями об осаде Трои или блестящей победе при Марафоне[130]! Мы не снисходили до закатов.
Наконец-то мы вошли в древнюю гавань Пирей. Мы бросили якорь в полумиле от селения. Вдалеке, на волнистой равнине Аттики, виднелся невысокий холм с плоской вершиной, и на ней неясные очертания каких-то зданий; в бинокли мы скоро увидели, что это руины Афинской цитадели, и среди них выделялись благородные очертания древнего Парфенона. Воздух здесь так необычайно чист и прозрачен, что в подзорную трубу мы различали каждую колонну этого величественного храма и разглядели даже развалины небольших соседних строений. И это на расстоянии пяти-шести миль! В долине у подножья Акрополя (холма с плоской вершиной, о котором сказано выше) в подзорную трубу можно разглядеть и Афины. Всем не терпелось сойти на берег и как можно скорее очутиться в этом краю классической древности. Ни одна страна из тех, что мы повидали, еще не вызывала такого единодушного интереса пассажиров.
Но нас ждали плохие вести. Прибыл на своем боте комендант Пирея и сказал, что мы должны либо совсем покинуть гавань, либо стать в карантин на внешнем рейде и одиннадцать дней не сходить на берег! Пришлось нам поднять якорь и выйти на внешний рейд, чтобы за десять — двенадцать часов пополнить запасы и идти в Константинополь. Такого горького разочарования мы еще не испытывали. Простоять целый день в виду Акрополя и уйти, так и не побывав в Афинах! Нет, слово «разочарование» никак не способно передать всего, что мы при этом чувствовали.
Весь день мы не покидали палубу; вооружившись книгами, картами, подзорными трубами, мы пытались определить, на каком скалистом хребте заседал Ареопаг[131], какой из пологих холмов Пникс[132], где холм Муссейон и так далее. Мы скоро запутались. Разгорелся спор, и каждый с жаром отстаивал свое. Одни с глубоким волнением взирали на холм, с которого, как они утверждали, проповедовал святой Павел, другие клялись, что это Гиметский холм, а третьи, что это гора Пентеликон! Как бы мы ни горячились, наверняка мы знали только одно: холм с плоской вершиной — это Акрополь, и величественные руины, венчающие его, — Парфенон, знакомый нам с детства по картинкам в школьных учебниках.
Каждого, кто приближался к кораблю, мы расспрашивали, есть ли в Пирсе охрана, очень ли она придирчива, могут ли нас задержать, если мы ускользнем с корабля, и что нам грозит, если мы и вправду решимся на это. Ответы не обнадеживали. В гавани сильная полицейская охрана; Пирей невелик, и всякий новый человек немедленно будет замечен и непременно задержан. Комендант сказал, что наказание будет строгое, а на вопрос: «Какое именно?» — ответил: «Очень суровое». Больше мы ничего от него не добились.
В одиннадцать часов вечера, когда большинство пассажиров уже улеглось, мы вчетвером потихоньку съехали в шлюпке на берег — луна весьма любезно спрягалась за облака — и, чтобы не попасться на глаза полиции, разбились по двое и решили с двух сторон обойти невысокий холм и город. Когда мы вдвоем крадучись пробирались по каменистому, заросшему крапивой холму, я почувствовал себя воришкой, вышедшим на промысел. Мы вполголоса разговаривали о карантинных правилах и наказаниях за их нарушение, и это не прибавляло нам бодрости. У меня имелись самые достоверные сведения на этот счет. Всего несколько дней назад наш капитан рассказал мне о человеке, которого на полгода заключили в тюрьму за то, что он переплыл на берег с судна, стоящего в карантине; а несколько лет назад, в Генуе, капитан судна, стоявшего в карантине, подъехал в лодке к кораблю на внешнем рейде, уходящему в плавание, — он хотел переслать письмо своей семье, — за это его на три месяца заключили в тюрьму, потом вывели его корабль в открытое море, а самого предупредили, чтобы он никогда больше здесь не показывался.
От подобных разговоров храбрые нарушители карантина несколько приуныли и оставили эту тему. Мы обошли город стороной и повстречали лишь одного человека, который удивленно поглядел на нас, но ничего не сказал, да еще человек десять спали на земле и так и не проснулись, когда мы проходили мимо; зато мы перебудили всех собак, и постоянно не одна так другая, а иногда и целый десяток, с лаем бежали за нами но пятам. Они лаяли так оглушительно, что, как потом оказалось, на борту долгое время следили за нами и всякую минуту могли определить, где мы находимся. Луна все еще была с нами заодно. Она вынырнула и залила все ярким сиянием лишь после того, как, сделав полный круг, мы проходили мимо домов на другом краю города и уже не боялись света. Нам захотелось пить, и мы подошли к колодцу возле дома, но хозяин, взглянув на нас, тотчас повернулся и скрылся за дверью. Он ушел, оставив мирно спящий город в наших руках. И я с гордостью могу сообщить, что мы не сделали городу ничего худого.
Дороги нигде не было видно, и, заметив вдалеке, слева от Акрополя, высокий холм, мы стали пробираться к нему напрямик через все препятствия, по такому уж отчаянному бездорожью, какого не сыщешь в целом свете, разве что в штате Невада. Сперва мы шли по мелкому осыпающемуся щебню, ступая сразу на пять или шесть камешков, и все они тут же ускользали из-под ног. Потом пересекли сухое, рыхлое, свежевспаханное поле. Лотом перед нами оказались виноградники, которые мы приняли за куманику, и мы долго с трудом продирались сквозь спутанную лозу. Если не считать виноградников, равнина Аттики бесплодна, пустынна и неприглядна; хотел бы я знать, какова она была в золотой век Греции, за пять столетий до рождества Христова?
Около часу ночи, когда, разгоряченные быстрой ходьбой, мы изнывали от жажды, Дэнни вдруг воскликнул: «Слушайте, да ведь мы же идем по винограднику!» И мы в пять минут нарвали целые охапки тяжелых белых, чудесных гроздей, и нам все было мало, — но тут словно из-под земли выросла какая-то таинственная тень и окликнула нас. Пришлось уйти.
Минут через десять мы наткнулись на великолепную дорогу, и, не в пример другим, которые уже попадались нам, она вела как раз туда, куда надо. Мы пошли по ней. Дорога была прекрасная — широкая, ровная, белая, в отличном состоянии, на протяжении мили обсаженная по сторонам тенистыми деревьями и окаймленная богатыми виноградниками. Дважды мы отправлялись за виноградом, но во второй раз кто-то невидимый закричал на нас из темноты. И нам снова пришлось уйти. Больше мы уже не помышляли о винограде в этих краях.
Вскоре мы подошли к древнему акведуку, опирающемуся на каменные арки, и с этой минуты нас обступили руины — мы приближались к цели нашего путешествия. Теперь мы потеряли из виду и Акрополь и тот высокий холм, и я предложил не сходить с дороги, пока мы не доберемся до них, но остальные не согласились, и мы стали карабкаться на каменистый холм, высившийся перед нами, с его вершины увидели другой холм, взобрались на него — и увидели еще один! За час мы выбились из сил. Но вот перед нами длинный ряд открытых могил, высеченных в скале (одна из них некоторое время служила темницей Сократу), мы обогнули гору — и внезапно пред нами предстали руины цитадели во всем их великолепии! Мы бегом спустились в лощину, извилистой тропой поднялись вверх — и вот мы у Акрополя, и над нашими головами величаво вздымаются к небу древние стены цитадели. Мы не стали осматривать гигантские мраморные глыбы, не стали измерять их высоту или гадать, какова их толщина, — мы, не задерживаясь, прошли огромным сводчатым переходом, похожим на железнодорожный туннель, и оказались перед воротами, которые вели к древним храмам. Но ворота были на запоре! Неужели нам так и не суждено увидеть лицом к лицу великий Парфенон? Мы обогнули стену и увидели невысокий бастион — восемь футов снаружи и десять — двенадцать с внутренней стороны. Дэнни решил взобраться на бастион, мы готовы были последовать за ним. С величайшим трудом он вскарабкался на стену и уселся верхом, но гут сорвалось и с грохотом обрушилось во двор несколько камней. Тотчас захлопали двери, раздался крик. Дэнни точно сдуло со стены, и мы в беспорядке отступили к воротам. За четыреста восемьдесят лет до рождества Христова Ксеркс взял эту могучую цитадель, вторгшись в Грецию с пятимиллионным войском[133], и если бы в нашем распоряжении оказалось лишних пять минут, мы, четверо бродяг, тоже завладели бы ею.
Появился гарнизон — четыре грека. Мы стали громко требовать, чтобы нас впустили, — и ворота открылись (подкуп и продажность).
Мы пересекли широкий двор, вошли в огромные двери и ступили на плиты чистейшего белого мрамора, истертые множеством ног. Омытые лунным светом, перед нами предстали самые благородные из всех когда-либо виденных нами руин — Пропилеи, маленький храм Минервы, храм Геркулеса и величественный Парфенон. Все они сложены из белоснежного пентеликонского мрамора, но от времени он приобрел розоватый оттенок. Однако там, где излом еще свеж, мрамор сверкает белизной, точно первосортный рафинад. Шесть кариатид, шесть мраморных женщин в ниспадающих мягкими складками одеяниях, поддерживают портик храма Геркулеса, но другие храмы окружены массивными дорийскими и ионийскими колоннами, чьи каннелюры и капители еще не совсем утратили былую красоту, хотя над ними и пронеслись века и они претерпели не одну осаду. Парфенон, длина которого двести двадцать шесть футов, ширина — сто и высота — семьдесят, был некогда со всех сторон окружен колоннами: по два ряда, из восьми колонн каждый, по обеим коротким сторонам и по ряду, из семнадцати колонн каждый, на длинных сторонах; он был одним из самых величественных и неповторимо прекрасных созданий рук человеческих.
Большинство величавых колонн Парфенона еще стоит, но кровли нет. Двести пятьдесят лет тому назад он был в полной сохранности, но артиллерийский снаряд попал в расположенный поблизости венецианский пороховой погреб[134], и взрывом храм был разрушен и лишен кровли. Я мало что помню о Парфеноне. Несколько фактов и цифр, которые я привел здесь ради людей с плохой памятью, взяты мною из путеводителя.
В задумчивости бродили мы по вымощенному мрамором величественному храму, и мир, окружавший нас, завладел нашим воображением. Повсюду во множестве белели статуи богов и богинь на мраморных постаментах — одни без рук, другие без ног, третьи без головы, но в лунном свете все они казались скорбными и пугающе живыми! Со всех сторон они обступали незваного полночного гостя, глядели на него каменными очами из самых неожиданных уголков и ниш, всматривались в него из-за груды обломков в пустынных переходах, преграждали ему путь к сердцу форума и, безрукие, властно указывали ему выход из святилища; в лишенный кровли храм с небес заглядывала луна и бросала косые черные тени колонн на усыпанный обломками пол и разбитые статуи.
Целый мир разрушенных скульптур окружает нас! Согни искалеченных статуй, больших и малых, искусно изваянных, установлены рядами, свалены в кучи, разбросаны но всему Акрополю; тут же лежат огромные глыбы мрамора, составляющие когда-то антаблемент, и в высеченных на них барельефах увековечены сражения, осады, военные корабли с тремя-четырьмя ярусами весел, праздничные шествия, процессии — чего только там нет! Мы знаем из истории, что храмы Акрополя были украшены прекраснейшими творениями Праксителя, Фидия и еще многих великих ваятелей, и подтверждением тому, бесспорно, служит изящество этих обломков.
Мы вышли на заросшую травой, усеянную обломками площадь за Парфеноном. Всякий раз, как в траве внезапно забелеет каменное лицо и уставится на нас неживой взор каменных глаз, мы вздрагивали. Казалось, мы попали в мир призраков и вот-вот из мрака выступят афинские герои, жившие двадцать веков назад, и проскользнут в древний храм, который им так хорошо знаком и которым они так безмерно гордились.
Полная луна поднялась уже высоко в безоблачном небе. Незаметно мы подошли к высокому зубчатому краю цитадели, заглянули вниз — и обмерли! Что за зрелище! Афины в лунном свете! Когда Иоанн Богослов возвестил, что ему открылся «святый град», уж конечно он видел не Новый Иерусалим, но Афины! Город раскинулся по равнине у наших ног и был виден весь, как будто мы глядели на него с воздушного шара. Мы не могли различить улиц, но каждый дом, каждое окно, каждая льнущая к стене виноградная лоза, каждый выступ были ясно, отчетливо видны, словно средь бела дня; и при этом ни ослепительного блеска, ни сверкания, ничего крикливого, ничто не режет глаз, — безмолвный город, весь облитый нежнейшим лунным светом, был словно живое существо, погруженное в мирный сон. В дальнем конце — небольшой храм, его стройные колонны и богато украшенный фасад так и сияли, и от него нельзя было оторвать глаз; ближе к нам, посреди обширного сада, белеют стены королевского дворца, сад весь озарен янтарными огнями, но в ослепительном лунном сиянии его золотой убор меркнет, и огни его мягко мерцают среди зеленого моря листвы, словно бледные звезды Млечного Пути. Над нами вздымаются к небу полуразрушенные, но все еще величественные колонны, у наших ног дремлющий город, вдали серебрится море. В целом свете не сыщешь картины прекрасней.
Когда, возвращаясь, мы опять проходили через храм, я всем сердцем желал, чтобы нашим ненасытным взорам явились великие мужи, которые посещали его в те далекие времена, — Платон, Аристотель, Демосфен, Сократ, Фокион, Пифагор, Эвклид, Пиндар, Ксенофонт, Геродот, Пракситель, Фидий, живописец Зевксис. Какая плеяда прославленных имен! Но больше всего мне хотелось, чтобы старик Диоген, который так усердно и терпеливо днем с огнем пытался найти в мире хотя бы одного честного человека, встал из гроба и повстречался с нами. Может быть, мне и не следовало бы так говорить, — но все же я полагаю, что тогда он погасил бы свой фонарь.
Мы вышли из цитадели, предоставив Парфенону охранять Афины, как он охранял их уже две тысячи триста лет. Вдали виднелся древний, но все еще безупречно прекрасный Тезейон, а рядом обращенная на запад Бема[135], с которой Демосфен обрушивал свои филиппики и воспламенял любовью к родине сердца своих нестойких соотечественников. Справа возвышался Марсов холм[136], где некогда заседал ареопаг и апостол Павел провозгласил свое кредо, а ниже — рыночная площадь, где он рассуждал ежедневно со словоохотливыми афинянами. Мы взобрались по каменным ступеням, по которым всходил апостол Павел, и, остановившись на площади, с которой он проповедовал, пытались вспомнить, что говорится об этом в Библии, но почему-то не могли припомнить эти слова. Я отыскал их после:
В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.
Итак, он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися.
.................
И, взявши его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?
.................
И, став среди ареопага, Павел сказал: «Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
Ибо, проходя и осматривая ваши свя1ыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». («Деяния апостолов», гл. XVII.)
Немного погодя мы спохватились, что, если мы хотим воротиться до свету, пора отправляться в путь. И мы поспешили домой. Мы оглянулись, чтобы еще раз па прощанье увидеть омытую лунным светом колоннаду Парфенона с посеребренными луной капителями. Таким он и остался в нашей памяти — торжественный, величавый и прекрасный.
Чем ближе к дому, тем меньше одолевали нас страхи, и мы уже почти не боялись ни карантинной полиции, ни кого бы то ни было. Мы осмелели и забыли думать об осторожности; окончательно расхрабрившись, я даже запустил камнем в собаку. Хорошо, что я не попал в нее, а то вдруг бы ее хозяин оказался полицейским! Вдохновленная столь счастливой неудачей, доблесть моя взыграла, и я стал даже посвистывать, правда не очень громко. Но отвага рождает отвагу, и вскоре, не постеснявшись яркого лунного света, я забрался в виноградник и нарвал огромную охапку превосходных гроздей, не обращая ни малейшего внимания на крестьянина, проезжавшего мимо на своем муле. Дэнни и Берч последовали моему примеру. Теперь винограду хватило бы на десятерых, но Джексона так и распирало от храбрости, и он просто не мог не войти в виноградник. Однако стоило ему ухватить первую кисть — и пошли беды. Всклокоченный, бородатый разбойник с криком выскочил на залитую луной дорогу, размахивая мушкетом. Мы бочком-бочком — и зашагали к Пирею, не побежали, конечно, а просто двинулись попроворнее. Разбойник снова закричал, но мы шли и шли. Становилось поздно, и нам недосуг было тратить время на каждого осла, которому вздумалось приставать к нам со всяким греческим вздором. Мы бы, может, еще и поболтали с ним, когда бы не так спешили. Но вдруг Дэнни сказал: «За нами гонятся!»
Мы обернулись, — так и есть, вон они, трое самых настоящих пиратов с ружьями. Мы замедлили шаг, поджидая их, а я тем временем не без сожаления, но решительно избавился от своей ноши, побросав виноградные кисти в тень у дороги. Я не испугался. Просто я почувствовал, что не хорошо воровать виноград, да еще когда хозяин поблизости, и не только сам хозяин, но и его друзья. Негодяи подошли, тщательно осмотрели сверток доктора Берча и, не обнаружив в нем ничего, кроме священных камней с Марсова холма, нахмурились: это ведь не контрабанда. Они, видно, подозревали, что он ловко провел их, и, казалось, были склонны снять скальпы со всех, кто шел вместе с ним. Но в конце концов они отпустили нас, сказав — надо полагать, на отличном греческом языке — несколько слов предостережения, и, замедлив шаг, понемногу отстали от нас. Пройдя за нами еще триста ярдов, они остановились, а мы, повеселев, продолжали путь. Но тут на смену им из тьмы выступил другой вооруженный мошенник и ярдов двести следовал за нами по пятам. Потом он уступил место третьему злодею, который взялся невесть откуда, а тот, в свою очередь, еще одному! Добрых полторы мили нас все время с тылу охраняли вооруженные люди. Никогда в жизни я не путешествовал с таким почетом.
Не скоро мы вновь рискнули покуситься на виноград, но при первой же попытке подняли на ноги еще одного бандита и больше ни о чем таком уже не помышляли. Тот крестьянин, верхом на муле, должно быть, предупредил о нас всех стражей от Афин до Пирея.
Каждое поле по этой длинной дороге охранял вооруженный сторож; конечно, не все они бодрствовали, однако в случае чего были под рукой. Это как нельзя лучше характеризует современную Аттику: ее населяют всякие темные личности. Сторожа охраняли свою собственность не от иностранцев, но друг от друга; ведь чужеземцы редко заглядывают в Афины и Пирей, а если и заглядывают, то среди бела дня, когда можно за гроши купить сколько угодно винограду. Жители современной Аттики отъявленные воры и лгуны, если верно то, что о них рассказывают, а я охотно этому верю.
Едва небо на востоке зарумянилось и колоннада Парфенона, будто сломанная арфа, повисла над жемчужным горизонтом, мы закончили наш тринадцатимильный поход по нелегким окольным путям и вышли к морю неподалеку от причала, сопровождаемые обычным эскортом из полутора тысяч пирейских псов, завывающих на все голоса. Мы окликнули лодку, которая стояла ярдах в трехстах от берега, и в ту же минуту поняли, что это полицейский бот, подстерегающий возможных нарушителей карантина. Мы поспешно ретировались — нам уже было не привыкать к этому, — и когда полицейские подъехали к месту, где мы только что стояли, нас уже и след простыл. Они пошли вдоль берега, но не в ту сторону, а тем временем из полумрака вынырнула наша лодка и взяла нас на борт. На корабле слышали наш сигнал. Мы гребли бесшумно и успели добраться до дому раньше, чем вернулась полицейская лодка.
Еще четверо наших пассажиров жаждали побывать в Афинах; они отправились спустя полчаса после нашего возвращения, но полиция заметила их, как только они высадились на берег, и тут же погналась за ними, так что они едва успели добраться до своей лодки, — на этом дело и кончилось. От дальнейших попыток они отказались.
Сегодня мы отплываем в Константинополь, но кое-кто из нас ничуть не жалеет об этом. Мы повидали все, что есть интересного в этом древнем городе, появившемся на свет за шестнадцать столетий до рождества Христова и успевшем состариться ко времени основания Трои, — и мы видели этот город во всей его красе. Так чего ж нам огорчаться?
Еще двоим пассажирам удалось ночью прорвать блокаду и съехать на берег. Мы узнали об этом наутро. Они ускользнули так незаметно, что на корабле их хватились лишь через несколько часов. Едва стало смеркаться, у них достало смелости отправиться в Пи-рей и нанять экипаж. Ко всем прочим приключениям во время «Увеселительной поездки в Святую Землю» они рисковали прибавить еще и три месяца тюрьмы. Я восхищаюсь «дерзкой отвагой»[137]. Но все обошлось благополучно, они так и не высунули носа из своего экипажа.
Глава VI. Современная Греция. — Архипелаг и Дарданеллы. — Следы истории. — Константинополь. — Огромная мечеть. — Тысяча и одна колонна. — Большой стамбульский базар.
От Афин мы шли мимо островов Греческого архипелага, и повсюду видели лишь нагромождение камней и пустынные горы, кое-где увенчанные тремя-четырьмя стройными колоннами разрушенного древнего храма, — одинокий, заброшенный, он являл собой символ запустения и упадка, ставших уделом Греции в последние столетия. Ни вспаханных нолей, ни деревьев, ни пастбищ, почти никакой зелени; лишь изредка перед нами проплывали селения, еще реже сиротливый дом. Современная Греция — это унылая, безрадостная пустыня, там, видимо, нет ни сельского хозяйства, ни промышленности, ни торговли. Чем держится ее бедствующее население, ее правительство — просто непостижимо.
Древняя Греция и Греция современная представляют собою столь разительный контраст, что другого такого, мне кажется, не знает история. Восемнадцатилетний Георг I и целая туча чиновников иностранного происхождения занимают места Фемистокла, Перикла, прославленных ученых и полководцев золотого века Греции. Флот, который в дни возведения Парфенона изумлял весь мир, ныне превратился в горсточку жалких рыбачьих суденышек, а отважный народ, который совершал чудеса доблести на Марафонском поле, — в племя ничтожных рабов. Река Илисс[138], воспетая древними, иссякла, и та же судьба постигла все источники греческого богатства и величия. Греков теперь насчитывается всего каких-нибудь восемьсот тысяч душ, а бедности, нищеты, жульничества с избытком хватило бы на сорок миллионов. При короле Отгоне в казне было пять миллионов долларов — они составлялись из налога на крестьян, равного десятой доле всего, что получал крестьянин со своего хозяйства (причем он обязан был доставить это на мулах в королевские амбары, если они были расположены не дальше чем в двадцати милях), и из непомерных налогов на ремесла и торговлю. На эти пять миллионов маленький тиран пытался содержать десятитысячную армию, оплачивать сотни никому не нужных главных конюших, первых камергеров, лордов канцлеров лопнувшего казначейства и прочие нелепости, которыми тешат себя в игрушечных королевствах, подражая великим монархиям; да сверх того он задумал построить дворец из белого мрамора, который один стал бы ему в пять миллионов. Итог был прост: из пяти миллионов десять не вычтешь, а уж об остатке и говорить не приходится. При таком размахе пятью миллионами не обойтись, и злополучному Отгону пришлось туго[139].
На греческий престол с его многообещающим приложением в виде нищих, но изобретательных на всякое мошенничество подданных, которые восемь месяцев в году болтались без дела, потому что здесь мало что можно было позаимствовать и еще меньше присвоить, а также голых бесплодных гор и заросших плевелом пустынь, долгое время не находилось претендента. Сперва его предложили одному из сыновей королевы Виктории, потом разным другим младшим королевским сыновьям, которые за отсутствием тронов оставались не у дел; однако все они были столь совестливы, что отклонили этот почетный, но тягостный долг, — они так глубоко чтили былое величие Греции, что в дни ее унижения не хотели глумиться над ее убожеством и бесчестьем, взойдя на этот мишурный трон; но вот наконец очередь дошла до юного Георга Датского, и он не побрезговал этой честью. Он достроил роскошный дворец, который я видел недавно в сияющем свете луны, и, говорят, делает еще многое другое во имя спасения Греции.
Мы миновали пустынный Архипелаг и вошли в узкий пролив, который иногда называют Дарданеллами, а иногда Геллеспонтом. Эта часть страны богата историческими воспоминаниями, всем остальным она бедна, как Сахара. Подходя к Дарданеллам, мы плыли мимо Троянской равнины и устья Скамандра; вдалеке мы увидели то место, где стояла некогда Троя и где ее уже нет, — город, погибший, когда мир был еще молод. Бедных троянцев ныне уже нет в живых. Они родились слишком поздно, чтобы увидеть Ноев ковчег, и умерли слишком рано, так и не увидев наш зверинец[140]. Мы проехали мимо того места, где сошлись корабли Агамемнона, и в отдалении разглядели гору, — судя но карте, это была Ида[141]. Проходя Геллеспонт, мы увидели, где был осуществлен первый упоминаемый в истории недобросовестно выполненный подряд и где Ксеркс сделал кроткое внушение «представителям другой стороны». Я имею в виду знаменитый мост из лодок, который Ксеркс приказал установить в самой узкой части Геллеспонта (ширина пролива здесь всего две-три мили). Не слишком сильный ветер разрушил недобросовестно сработанный мост, и, решив, что публичное внушение подрядчикам послужит хорошим уроком их преемникам, царь поставил их перед строем и приказал отсечь им головы. А уже через десять минут заключил новый контракт на постройку моста. Древние авторы утверждают, что новый мост был хоть куда. Ксеркс переправил но нему свое пятимиллионное войско, и, если бы потом намеренно не разрушил его, мост, наверно, стоял бы и по сей день. Если бы наше правительство время от времени делало внушения кое-кому из наших недобросовестных подрядчиков, это было бы очень и очень полезно. Видели мы и то место, где Леандр и лорд Байрон переплывали Геллеспонт[142] — один, чтобы оказаться рядом с той, которую он любил всем сердцем, и только смерть могла положить конец этой любви; другой — просто «для шику», как говорит Джек. Миновали мы и две знаменитые могилы. На одном берегу мирно спал Аякс, на другом — Гекуба.
Мы шли Геллеспонтом, а справа и слева высились береговые батареи и форты, над которыми развевался малиновый турецкий флаг с белым полумесяцем, изредка мелькала деревушка или караван верблюдов; мы глядели на все это, пока не вошли в Мраморное море, но тут берега расступились, а затем и вовсе скрылись из виду, и мы опять засели за юкр и вист.
Ранним утром мы бросили якорь у входа в Золотой Рог. Лишь каких-нибудь три-четыре пассажира поднялись, чтобы поглядеть на столицу Оттоманской Порты. Уже миновали дни, когда мы в самые неурочные часы вскакивали с постели, чтобы поскорей полюбоваться на диковинные чужеземные города. Пассажиры уже по горло сыты всем этим. Окажись мы теперь в виду египетских пирамид, они и то не выйдут на палубу, пока не позавтракают.
Золотой Рог — это узкий залив, который отходит от Босфора (подобия широкой реки, соединяющей Мраморное море с Черным) и, изогнувшись, делит Константинополь пополам. Галата и Пера расположены по одну сторону Босфора и Золотого Рога, а Стамбул (древняя Византия) по другую. На противоположном берегу Босфора — Скутари и другие предместья Константинополя. В этом огромном городе миллион жителей, но улицы его так узки, так тесно жмутся друг к другу дома, что весь он лишь немногим больше половины Нью-Йорка. Нет города прекрасней, если смотреть на Константинополь с якорной стоянки или с Босфора, когда добрая миля отделяет вас от него. Дома теснятся у самого моря, взбираются на многочисленные холмы, ими усеяны все вершины; разбросанные повсюду сады, купола мечетей, несчетные минареты сообщают столице ту причудливую красочность, полюбоваться которой мечтает каждый, читая описания путешествий на Восток. Константинополь необычайно живописен.
Но кроме живописности, он не радует ничем. С той минуты, когда покидаешь корабль, и до самого возвращения не устаешь проклинать этот город. Лодка, на которой съезжаешь на берег, годится для чего угодно, только не для этого. Она красиво, богато отделана, но никому не под силу искусно переправить ее через бурный поток, который устремляется в Босфор из Черного моря, и даже в тихих водах лишь немногие совладают с ней. Это длинная и легкая лодка (каик) с широкой кормой и носом, узким, словно лезвие ножа. Можно себе представить, как кипящее ключом течение подкидывает и вертит лодку с таким длинным узким носом. Эти каики обычно двухвесельные, иногда четырехвесельные, но всегда без руля. Ты хочешь высадиться в определенном месте на берегу, но куда только тебя не заносит, пока ты наконец доберешься до него. Гребут то одним веслом, то другим и почти никогда — обоими сразу. Нетерпеливого человека такое плавание в неделю сведет с ума. А лодочники до того неловки, неумелы и бестолковы, что хуже и вообразить невозможно.
На берегу попадаешь — как бы это сказать — в самый настоящий цирк. Людей в узких улочках — как пчел в улье, и одеты они в такие чудовищные, ошеломляющие, несуразные, крикливые наряды, какие может измыслить разве что портной в белой горячке. В одежде здесь дают волю самой дикой фантазии, мирятся с самыми причудливыми нелепостями, не гнушаются самыми сверхъестественными отрепьями. Тут не встретишь и двух одинаково одетых людей. Это какой-то фантастический маскарад, на котором представлены поистине невообразимые костюмы, любой человеческий водоворот на любой улице просто оглушает контрастами. Некоторые почтенные старцы носят внушающие благоговейный трепет тюрбаны, по большинство толпящихся всюду басурманов ходит в огненно-красных ермолках, которые здесь называют фесками. Все остальное в их костюмах никак не поддается описанию.
Здешние магазины — это просто-напросто курятники, каморки, закутки, чуланчики — называйте их как угодно, и ютятся они в полуподвалах. В этих лавках турки сидят скрестив ноги, мастерят что-то, торгуют, курят свои длинные трубки и пахнут... пахнут турком. Этим все сказано. Перед лавками на узких улочках толпятся нищие, и они вечно клянчат, но никогда ничего не получают; вас обступают калеки, изуродованные чуть ли не до потери человеческого образа; оборванцы погоняют тяжело нагруженных ослов; носильщики тащат на спине огромные, как дома, ящики с галантерейным товаром, разносчики вопят как одержимые, на все лады расхваливая свои яства — виноград, горячую кукурузу, тыквенные семечки, — все что угодно; а под ногами у снующих толп мирным, безмятежным сном спокойно спят знаменитые константинопольские собаки; в толпе бесшумно проплывает стайка турчанок, закутанных с головы до пят в ниспадающие мягкими складками покрывала; видны лишь блестящие глаза под снежно-белой чадрой да смутно угадываются черты лица. Они скользят в отдалении, под сумрачными сводами Большого базара, наводя на мысль о закутанных в саван мертвецах, что восстали из могил, когда буря, гром и землетрясение обрушились на Голгофу в страшную ночь распятия Христа. На улицы Константинополя стоит поглядеть один раз в жизни — но не более.
Нам повстречался торговец гусями — он гнал целую сотню их через весь город на продажу. В руках он держал шест десяти футов длиной с крюком на конце; порою какой-нибудь гусь отбивался от стаи и, растопырив крылья и изо всех сил вытягивая шею, спешил завернуть за угол. Думаете, это тревожило хозяина? Ничуть не бывало. Он с неописуемым спокойствием поднимал свой шест, зацеплял крюком шею беглеца и в два счета водворял его на место. Этим шестом он правил гусями, как лодочник правит яликом. Через несколько часов на шумной и людной улице мы снова увидали этого продавца гусей: усевшись в углу, он крепко спал на солнышке, а гуси — одни расселись вокруг него, другие бродили по улице, то и дело увертываясь от пешеходов и ослов. Примерно через час мы снова прошли мимо него: он подсчитывал свой товар, проверяя, не отбился ли который-нибудь из гусей, не украден ли. Его способ подсчета был единственный в своем роде. Он протянул шест дюймах в восьми от каменной степы и заставил гусей проходить поодиночке в образовавшийся коридор. Они проходили, а он считал их. Увильнуть было нельзя.
Если вы хотите увидеть карликов — нескольких карликов, просто из любопытства, — поезжайте в Геную. Если пожелаете купить их оптом, для продажи в розницу, поезжайте в Милан. В Италии повсюду множество карликов, но, по-моему, самый большой урожай на них в Милане. Если бы вам вздумалось поглядеть на обычный, хорошо подобранный ассортимент калек, поезжайте в Неаполь или отправляйтесь путешествовать по Романье. Но если вам вздумается побывать на родине, в самом средоточии калек и уродов, отправляйтесь в Константинополь. Нищий, выставляющий ступню, которая вся ссохлась в один чудовищный палец с бесформенным ногтем, в Неаполе становится богачом, а в Константинополе его попросту никто не заметит, и он умрет с голоду. Кто станет обращать внимание на подобные пустяки, когда на мостах Золотого Рога, у сточных канав Стамбула выставляют напоказ свое безобразие целые толпы редкостных уродов. Несчастный самозванец! Где ему тягаться с трехногой женщиной или с человеком, у которого глаз посреди щеки? Не посрамит ли его человек, у которого пальцы на локте? Куда бы он спрятался, если б сюда пожаловал во всем своем величии карлик о семи пальцах на каждой руке, без верхней губы и без нижней челюсти! Алла Бисмилла![143] Калеки Европы — это чистый обман и мошенничество. Настоящие таланты расцветают пышным цветом лишь в закоулках Перы и Стамбула.
Трехногая женщина лежит на мосту, выставив на всеобщее обозрение свой основной капитал: каждому сразу бросается в глаза одна обыкновенная нога и две длинные, вывернутые, тонкие, точно руки, заканчивающиеся ступнями. Тут же человек без глаз, лицо сизо-багровое, словно засиженный мухами кусок мяса, в глубоких складках и бороздах, сморщенное, искривленное, как обломок застывшей лавы; все черты так смяты и перекошены, что нарост, торчащий вместо носа, не отличишь от скул. Есть еще в Стамбуле человек с головой великана и невероятно длинным туловищем на коротеньких восьмидюймовых ножках со ступнями как охотничьи лыжи. Он не мог бы передвигаться, если бы вдобавок не опирался на руки, как на костыли, но и при этом он шатается и качается, будто его оседлал Колосс Родосский. Что и говорить, чтобы добывать пропитание в Константинополе, нищий должен выставить напоказ что-нибудь из ряда вон выходящее. Человека с сипим лицом, который только и может похвастать тем, что он пострадал при взрыве в шахте, здесь сочтут просто наглецом, а какому-нибудь солдату на костылях не подадут ни гроша.
Главная достопримечательность Константинополя — мечеть св. Софии. Попав в город, надо первым делом получить фирман[144] султана и тут же бежать туда. Мы и побежали. Только вместо султанского фирмана каждый из нас предъявил при входе несколько франков, что прекрасно его заменило.
Я не в восторге от мечети св. Софии. Наверно, я просто ничего в этом не понимаю. Но тут уж ничего не поделаешь. Во всем языческом мире нет казармы уродливей. Я думаю, она вызывает такой большой интерес прежде всего потому, что воздвигли ее как христианскую церковь, а потом завоеватели магометане, почти не перестраивая, превратили ее в мечеть. Меня заставили снять башмаки и вступить в мечеть в одних носках. Я простудился, и на ноги мне налипло столько смолы, грязи и всякой гадости, что я в этот вечер извел добрых две тысячи рожков, прежде чем мне наконец удалось снять башмаки, да и то лишился при этом некоторого количества собственной кожи. Я не преувеличиваю ни на один рожок.
Эта исполинская церковь стоит уже тринадцать или четырнадцать веков, но вид у нее такой неприглядный, как будто она гораздо старше. Говорят, с ее огромным куполом не сравнится даже великолепный купол св. Петра в Риме, но еще больше поражает здесь ни с чем не сравнимая грязь, хотя об этом никто и не упоминает. В церкви сто семьдесят колонн, все они высечены из дорогого мрамора разных сортов, каждая из одного куска, но их привезли сюда из древних храмов Баальбека, Гелиополиса, Афин и Эфеса, и от былой их красоты не осталось и следа. Когда построили церковь, колоннам этим минуло уже тысячу лет, и если бы зодчие Юстиниана[145] не потрудились над ними, глаз не вынес бы этого контраста. Купол изнутри разукрашен диковинными турецкими письменами, выложенными золотой мозаикой, и весь сверкает и блещет, как цирковая афиша; панели и балюстрады исковерканы и все в грязи; куда ни глянь — все точно сеткой затянуто: с головокружительной высоты купола свисают бесчисленные веревки, и на них, в шести или семи футах над полом, подвешены закопченные масляные светильники и страусовые яйца. И тут и там, впереди и сзади, вблизи и вдалеке тесными кучками, скрестив ноги, сидят одетые в лохмотья турки, читают, слушают проповеди, а то и наставления, как малые дети, а сотни других снова и снова кладут поклоны, лобызают камень и шепчут молитвы; и кажется, им давно уже пора бы выбиться из сил, а они все продолжают свои гимнастические упражнения.
Повсюду грязь, пыль, копоть, мрак; повсюду следы седой древности, но она не трогает сердца, не прельщает взора; повсюду толпы дикого вида язычников, над головой крикливо-пышная мозаика и светильники на веревках, но ничто здесь не вызывает ни любви, ни восхищения.
Люди, которые восторгаются св. Софией, вероятно черпают свои восторги из путеводителя (в котором о каждой церкви сказано, что «по мнению признанных ценителей искусства, это во многих отношениях замечательный архитектурный памятник, не имеющий себе равных»), или это те пресловутые знатоки из захолустья Нью-Джерси, которые с трудом постигают разницу между росписью и распиской и, уяснив ее, уверены, что отныне они вправе изливать благоглупости на все, что подарили миру живопись, скульптура и зодчество.
Мы побывали у вертящихся дервишей. Их было счетом двадцать один. Все были одеты в широкие, длинные до пят, светлые балахоны. Они стояли на круглой площадке, обнесенной перилами; каждый по очереди подходил к священнику, низко кланялся, потом, исступленно завертевшись, возвращался на свое место в кругу и там продолжал вертеться. Заняв свои места — в пяти-шести футах друг от друга, — каждый продолжал вертеться волчком, и весь этот изуверский хоровод трижды обошел комнату. Это продолжалось двадцать пять минут. Кружась на левой ноге, они то и дело быстро выбрасывали вперед правую и, отталкиваясь ею, скользили все дальше по навощенному полу. Кое-кто развивал совершенно невероятную скорость. Большинство делало сорок оборотов в минуту, а один ловкач ухитрялся делать даже шестьдесят — и так все двадцать пять минут; балахон его раздулся и стал точно воздушный шар.
И все это в совершенном безмолвии, закинув голову, сомкнув веки, в каком-то религиозном исступлении. Время от времени раздавалась режущая слух музыка, но музыкантов не было видно. В круг никому нет доступа, кроме вертящихся дервишей. Если ты не кружишься, тебе там не место. Это, пожалуй, самое варварское зрелище из всего виденного нами до сих пор. Пришли больные, легли на пол, рядом с ними женщины положили больных детей (среди них был один грудной младенец), а патриарх дервишей прошел по телам лежащих. Предполагается, что, топча им грудь, спину или наступая на затылок, он исцеляет их недуги. Чего еще можно ждать от людей, которые воображают, будто все, что с ними случается, и хорошее и плохое, дело незримых духов — великанов, гномов, джиннов, — и которые и по сей день верят всем буйным вымыслам «Тысячи и одной ночи». Во всяком случае, так объяснил мне один миссионер, человек очень умный.
Мы посетили Тысячу и одну колонну[146]. Я не знаю, для чего они предназначались, — говорят, для водоема. Расположены они в центре Константинополя. Спускаешься по каменным ступеням посреди пустынной площади — и вот они перед тобой. Ты оказываешься в сорока футах под землей, и тебя обступает целый лес высоких, стройных гранитных колонн в византийском стиле. Стой, где хочешь, или сколько угодно переходи с места на место — ты все равно всегда будешь в центре, от которого во все стороны расходятся десятки длинных сводчатых коридоров и колоннад, теряющихся вдали, в угрюмом сумраке подземелья. В этом древнем пересохшем водоеме обитает теперь несколько тощих ремесленников, они плетут шелковые кушаки; один из них показал мне крест, высеченный высоко на капители. Он, кажется, хотел дать мне понять, что крест этот был здесь еще до того, как турки завладели городом; помнится, он что-то такое сказал, но он, должно быть, шепелявил или был косноязычен, и я его не понял.
Мы разулись и вошли в мраморный мавзолей султана Махмуда, внутри он был удивительно хорош, ничего подобного за последнее время мне не приходилось видеть. На гробнице Махмуда — искусно расшитый черный бархатный покров; она окружена затейливой серебряной решеткой, а по углам серебряные подсвечники, каждый весом больше сотни фунтов, и в них огромные, толщиной с человеческую ногу, свечи; на крышке саркофага — феска, вся изукрашенная алмазами, цена которым, как не замедлил нам соврать служитель, сто тысяч фунтов. В этом же мавзолее покоится вся семья Махмуда.
Побывали мы, конечно, и на Большом стамбульском базаре; не стану его описывать подробно, скажу только, что это гигантский улей — тысячи лавчонок лепятся здесь под одной кровлей, разделенные на бесчисленные ряды узкими крытыми улочками. В каждом ряду торгуют только каким-нибудь одним товаром. Если вам вздумалось купить пару туфель — вот они все перед вами, в одном ряду, вам незачем рыскать по всему базару. То же и с шелками, и со старинными вещицами, и с шалями, и со всем остальным. Здесь с утра до ночи толпится народ, перед каждой лавкой в изобилии разложены пестрые восточные материи, и, право же, Стамбульский базар стоит посмотреть. Он полон жизни, движения, кипучей деятельности, грязи, нищих, ослов, вопящих торговцев, посыльных, дервишей, высокородных покупательниц турчанок, греков, фантастического вида магометан в фантастических одеждах — пришельцев с гор или из далеких провинций; одного только не сыщешь на Большом базаре: ни единой вещи, которая не издавала бы зловония.
Глава VII. Нехватка нравственности и виски. — Бюллетень девичьего рынка. — Оклеветанные константинопольские псы. — Турецких завтраков больше не требуется. — Турецкие бани — обман.
Мечетей много, церквей сколько угодно, кладбищ хоть отбавляй, а вот нравственности и виски маловато. Коран не разрешает правоверным потреблять спиртные напитки. Природные склонности не разрешают им быть нравственными. Говорят, у султана восемьсот жен. Это, пожалуй, ничем не лучше двоеженства. Мы вспыхнули от стыда, узнав, что в Турции разрешаются подобные вещи. Однако мы относимся к ним куда снисходительней, когда они происходят в Солт-Лейк-Сити[147].
Черкесы и грузины все еще продают в Константинополе своих дочерей, но уже не в открытую. Пресловутые невольничьи рынки, о которых все мы столько читали и где молоденьких девушек раздевали у всех на глазах и осматривали и обсуждали, словно лошадей на ярмарке, не существуют более. Теперь и выставка товара и сделки происходят тайно, частным образом. Цены стоят высокие, особенно в последнее время: отчасти потому, что спрос увеличился в связи с недавним возвращением султана и его свиты от европейских дворов; отчасти из-за необычного изобилия хлеба — голод не мучает продавцов, и они не спешат сбавлять цену; а отчасти потому, что теперешнему покупателю не по плечу играть на понижение, а купец только и ждет, как бы сыграть на повышение. Если бы в Константинополе выходили крупные американские газеты, то в этих условиях их очередной биржевой бюллетень, наверно, выглядел бы примерно так:
НА ДЕВИЧЬЕМ РЫНКЕ
Отборные черкешенки урожая 1850 г. — 200 ф. Стерл., 1852 г. — 250 ф. Стерл., 1854 г. — 300 ф. Стерл. Отборные грузинки — предложения не было; второй сорт, 1851 г. — 180 ф. Стерл. Девятнадцать валахских девушек среднего качества по 130—150 ф. Стерл. За штуку, спроса не было; шестнадцать прима распроданы небольшими партиями, цены неизвестны.
Распродается партия черкешенок, от прима до хороших, урожая 1852—1854 гг., — от 240 до 242.5 ф. Стерл.; одна — 1849 г. — выбракованная, идет за 23 фунта.
Несколько грузинок отличного качества урожая 1852 г. перешли к другому владельцу. Грузинки, имеющиеся сейчас в наличии, главным образом остатки прошлогоднего урожая, который был необычайно скуден. Новая партия несколько запаздывает, но скоро прибудет. Что касается ее количества и качества, отзывы самые обнадеживающие. В связи с этим можно с уверенностью сказать, что виды на черкешенок превосходные. Его величество султан уже распорядился сделать крупные закупки для нового гарема, который будет достроен за две недели, — это, естественно, укрепило рынок и способствовало повышению цен на черкешенок. Воспользовавшись тем, что цены на рынке подскочили, многие наиболее проницательные дельцы перепродают товары, которых у них еще нет в наличности. Есть основания ждать ажиотажа с валашками.
С нубианками без изменений. Распродажа идет медленно.
Евнухи. — Предложений не было, однако сегодня ожидается крупный груз из Египта.
По-моему, так выглядел бы этот бюллетень. Цены сейчас сравнительно высокие, и владельцы товара не уступают; но два-три года назад умирающие с голоду родители привозили сюда своих юных дочерей и отдавали их за какие-нибудь двадцать — тридцать долларов, если не могли взять больше, лишь бы спасти и себя и девушек от голодной смерти. Грустно думать о такой горькой нужде; и что касается меня, то я от души рад, что нынче цены опять поднялись.
В торговле моральные устои особенно шатки. С этим спорить не приходится. Для грека, турка или армянина вся добродетель заключается в том, чтобы аккуратно посещать храм Божий в день субботний и нарушать десять заповедей во все остальные дни. Они и от природы склонны ко лжи и обману, а постоянными упражнениями достигают в этом искусстве совершенства. Уговаривая купца взять его сына в приказчики, отец не говорит, что сын его порядочный, нравственный, честный, правдивый мальчик и посещает воскресную школу, — нет, он аттестует его так: «Парнишке цены нет — вот увидите, он всякого обведет вокруг пальца; а уж лгуна такого не сыщешь нигде от Евксина[148] до самого Мраморного моря!» Какова рекомендация? Миссионеры рассказывали мне, что подобные панегирики здесь можно услышать ежедневно. О человеке, который приводит здешних жителей в восхищение, тут говорят так: «Ах, это прелесть что за жулик, а какой великолепный враль!»
Все лгут и плутуют — во всяком случае, все, кто занимается коммерцией. Даже иностранцы и те вскоре опускаются до этого местного обычая и, продавая и покупая в Константинополе, быстро научаются лгать и обманывать, как заправские греки. Я говорю: «как греки», потому что считается, что они больше всех грешат этим. Несколько американцев, давно живущих в Константинополе, утверждают, что большинство турков заслуживает кой-какого доверия, но мало кто поручится, что у греков можно обнаружить хоть какую-нибудь добродетель, — во всяком случае, без испытания огнем.
Я склоняюсь к мысли, что знаменитых константинопольских псов выставляли в ложном свете — их просто оклеветали. Меня приучили думать, что на улицах они кишмя кишат, так что ни пройти, ни проехать; что они передвигаются чуть ли не стройными взводами, ротами, батальонами и решительно и свирепо атакуют все, что им ни приглянется; и что по ночам их дикий вой заглушает все остальные звуки. Но собаки, которых я здесь увидел, совсем другие.
Я встречал их повсюду, но вовсе не такими мощными отрядами. Больше десятка или двух за раз мне не попадалось. И, днем ли, ночью ли, добрая половина их спала крепким сном, а у остальных тоже глаза слипались. Еще никогда в жизни не видел я таких убогих, изголодавшихся, убитых горем дворняг, с такими скорбными физиономиями. Жестоко насмехаются над ними те, кто обвиняет их, будто они захватывают добычу силою оружия. Да у них едва ли достанет энергии или дерзости перейти на другую сторону улицы, — по крайней мере я, кажется, ни разу не видел, чтобы хоть одна из них отправилась в столь далекое путешествие. Они все изувеченные, шелудивые, облезлые, у иной шерсть местами так спалена, что в ней пролегли широкие дороги, словно это вовсе и не шкура, а карта наших новых территорий. Это самые жалкие, самые униженные и самые несчастные существа на свете. Морды у них неизменно меланхоличные и безнадежно унылые. Константинопольские блохи облюбовали пролысины покрытых коростой псов и предпочитают их обширным пастбищам здоровых псов; эти лишенные растительности пятна пришлись им как нельзя более по вкусу. Однажды я видел, как шелудивый пес собрался расправиться с блохой, но тут его внимание отвлекла муха, и он попытался поймать ее, но блоха снова напомнила о себе, и он совсем расстроился, горестно поглядел сперва на свой блошиный выгон, потом на проплешины, потом испустил тяжелый вздох и уронил голову на лапы. Задача оказалась ему не по зубам.
Псы спят на улицах по всему городу. По-моему, на каждый квартал приходится в среднем по восемь — десять штук. Бывает, конечно, и пятнадцать и двадцать на квартал. У них нет хозяев, и непохоже, чтобы их связывали узы дружбы. Но весь город они поделили между собой на участки, и псы каждого участка, будь то полквартала или десять кварталов, не выходят за его пределы. Горе псу, нарушившему границу! Соседи в два счета выдерут у него остатки шерсти. По крайней мере так говорят. Но по их виду этого не скажешь.
Целыми днями они спят на улицах. Они служат мне компасом и проводником. Видя, как мирно они спят посреди улицы, а пешеходы, овцы, гуси — все, что движется, — обходят их стороной, я понимаю, что это еще не та большая улица, где стоит наш отель, и иду дальше. На главной улице собаки явно все время настороже: видно, им приходится каждый день уступать дорогу многочисленным экипажам, — и эту настороженность сразу прочтешь на их мордах. Она свойственна лишь собакам этой улицы. Все остальные спят мирно и безмятежно. Они не двинутся с места, появись здесь хоть сам султан.
На одной узкой улочке (впрочем, они все нешироки) я видел трех собак, — свернувшись в клубок, они лежали на расстоянии одного-двух футов друг от друга. Они занимали всю ширину улочки, от одной сточной канавы до другой. Появилась отара овец голов в сто. Передние овцы стали шагать прямо по собакам, задние нетерпеливо напирали. Псы лениво подняли головы, вздрогнули разок-другой, когда овцы наступали на их ободранные спины, — и со вздохом вновь погрузились в сонное оцепенение. Яснее, кажется, и словами не скажешь. Итак, одни овцы перепрыгивали через них, другие пробирались между ними, время от времени наступая острыми копытами им на ноги, а когда, подняв облако пыли, все стадо прошло по ним, собаки чихнули разок-другой, но так и не сдвинулись с места. Я всегда считал себя лентяем, но по сравнению с константинопольскими псами я настоящий паровоз. Ну не удивительная ли картинка для города с миллионным населением?
Эти псы — городские мусорщики. Таково их официальное положение, и оно не из легких. Однако это их защита. Если бы не то, что они приносят пользу, хоть отчасти очищая ужасные стамбульские улицы, их не стали бы долго терпеть. Они поедают все, что им ни попадется, — дынные корки, гнилой виноград, всевозможные отбросы и нечистоты, даже останки своих друзей и родичей, — и, однако, они всегда тощие, всегда голодные, всегда унылые. Люди не желают убивать их — и никогда не убивают. Говорят, у турков врожденное отвращение к убийству бессловесных тварей. Но они поступают хуже: они способны повесить несчастного пса, пинать его ногами, закидывать камнями, ошпарить кипятком и, истерзав до полусмерти, не приканчивают, а предоставляют ему жить и мучиться.
Однажды султан пожелал уничтожить всех псов, и началась бойня, но население Константинополя, ужаснувшись, подняло такой крик, что пришлось отказаться от этой затеи. Немного погодя он решил переправить всех собак на один из островов в Мраморном море. Никто не возражал, и первый корабль, груженный псами, отправился из города. Но когда разнеслась весть, что собаки до острова почему-то не доехали, а ночью все оказались за бортом и погибли, снова поднялся крик, и план выселения их из города был оставлен.
Итак, псы по-прежнему владеют завоеванными без боя улицами Константинополя. Я не говорю, что они не воют по ночам и не кусают людей без красной фески на голове. Скажу только, что с моей стороны было бы низостью обвинять их в столь неподобающих поступках, поскольку сам я не видел этого своими глазами и не слышал своими ушами.
Я был слегка удивлен, увидав турок и греков, продающих здесь газеты, — здесь, в таинственном краю, где некогда обитали великаны и джинны из «Тысячи и одной ночи», где крылатые кони и многоголовые драконы охраняли заколдованные замки, где принцы и принцессы летали по воздуху на коврах, послушных волшебному талисману, где по мановению руки волшебника за одну ночь вырастали города с домами, сложенными из драгоценных каменьев, и где, покорные чарам, внезапно замирали оживленные торжища и каждый застывал, как был — лежал ли он, сидел ли, кто на ходу, кто взмахнув мечом, безмолвные, неподвижные, — ожидая, когда время отсчитает сто лет!
В этом царстве сна странно видеть мальчишек, продающих газеты. И, по правде говоря, они появились тут не так давно. Продажа газет родилась в Константинополе с год назад, она дитя прусско-австрийской войны[149].
Тут издается одна газета на английском языке — «Левант Геральд», несколько на французском, но больше всего на греческом. Они выходят, закрываются, пытаются продержаться и вновь закрываются. Правительство султана не жалует газеты. Оно не понимает журналистов и журналистики. «Неизвестность всегда пугает», — говорит пословица. По мнению султанского двора, газета — штука загадочная и подлая. Двору знакома чума, время от времени она посещает город и косит людей, унося по две тысячи человек в день, — и газета, на взгляд государственных мужей, та же чума, только в более легкой форме. Когда газета заходит слишком далеко, ее закрывают — набрасываются без предупреждения и душат. Если же она долго не переступает дозволенных границ, ее все равно прикрывают, подозревая, что она замышляет какие-то дьявольские козни. Представьте себе великого визиря, собравшего на торжественный совет первых вельмож империи, — он по складам читает ненавистную газету и наконец выносит мудрый приговор: «Листок этот вреден, смысл его темен, он подозрительно безобиден — закрыть его! Предупредить издателя, что мы этого не потерпим, редактора заточить в тюрьму!»
С изданием газет в Константинополе связаны кое-какие неудобства. В несколько дней были закрыты одна за другой две греческие и одна французская газеты. Султан запретил сообщать о победах критян[150]. Время от времени великий визирь посылает в различные редакции сообщения о том, что критский мятеж окончательно подавлен; и хотя редакторы прекрасно знают истинное положение дел, им приходится печатать это сообщение. «Левант Геральд» лестно отзывается об американцах, а потому не пользуется любовью султана, которому не по вкусу наше сочувствие критянам; чтобы избежать неприятностей, газете приходится быть сугубо осмотрительной. Однажды рядом с официальным сообщением о разгроме критян редактор напечатал письмо американского консула на Крите, совсем по-иному освещавшее события, и был оштрафован за это на двести пятьдесят долларов. Вскоре он напечатал еще одно письмо в том же духе — и наградой ему было трехмесячное тюремное заключение. Я, наверно, мог бы стать в «Левант Геральд» помощником редактора, но уж как-нибудь постараюсь прожить без этого.
Когда здесь закрывают газету, это означает почти полное разорение издателя. А в Неаполе, по-моему, на подобных злоключениях ловко спекулируют. Там каждый день закрывают газеты, но назавтра же они выходят под новым названием. За те десять — двенадцать дней, что мы провели там, одну газету убивали дважды, и она дважды воскресала на наших глазах. Разносчики газет там плуты, как, впрочем, и повсюду. Они играют на человеческих слабостях. Чувствуя, что им едва ли удастся распродать свой товар, они с таинственным видом шепчут прохожему: «Последний экземпляр, сэр. Двойная цена. Газету только что закрыли!» Человек, конечно, покупает газету и не находит в ней никакой крамолы. Говорят — я не ручаюсь, но так говорят, — что иногда издатели какой-нибудь газеты печатают ультрамятежную статью, весь тираж быстро раздают газетчикам, а сами скрываются, пока гнев правительства не остынет. Это прекрасно окупается. Конфискация особого ущерба не наносит. Шрифт и печатные станки не стоят того, чтобы о них беспокоиться.
В Неаполе только одна английская газета. У нее семьдесят подписчиков. Издатель наживает состояние медленно, очень медленно.
Я один раз пытался позавтракать по-турецки, и второго такого завтрака мне уже до самой смерти не захочется. Двери маленькой закусочной у самого базара были отворены настежь; тут и стряпали и ели. Повар был грязен, ничем не покрытый стол — тоже. Повар нанизал колбасу на проволоку и положил ее на жаровню. Когда блюдо было готово, он отложил его в сторонку, но тут вошел печальный, задумчивый пес и ухватил кусок; впрочем, сперва он обнюхал жаркое и, верно, признал в нем покойного друга. Повар отобрал мясо у пса и подал его нам. Джек сказал: «Я пас», — он иногда играет в карты, — и все мы спасовали вслед за ним. Потом повар испек большую плоскую пшеничную лепешку, положил на нее жареную колбасу и направился к нам. По дороге он уронил ее в грязь — поднял, вытер о штаны и подал нам. Джек сказал: «Я пас». И все мы спасовали. Повар вылил на сковороду несколько яиц и задумчиво поковырял вилкой в зубах, вытаскивая застрявшие куски мяса, — потом той же вилкой он перевернул яичницу и поднес ее нам. Джек сказал: «Опять пас». Все последовали его примеру. Что же было делать? Мы снова заказали колбасу. Повар вытащил проволоку, отделил соответствующую порцию колбасы, поплевал на руки и принялся за работу. Тут мы все разом спасовали. Мы расплатились и вышли. Вот и все, что я узнал о турецких завтраках. Турецкий завтрак, без сомнения, хорош, но он не лишен некоторых недостатков.
Когда я думаю о том, какую злую шутку сыграли со мной книги о путешествиях по Востоку, мне всегда хочется позавтракать каким-нибудь из этих авторов. Годами мечтал я о чудесах турецкой бани, годами обещал себе вкусить этого блаженства. Сколько раз представлял я себе, что вот лежу я в мраморном водоеме и вдыхаю разлитый в воздухе дурманящий аромат восточных благовоний, потом орава обнаженных дикарей, едва различимых в клубах пара, яростно накидывается на меня, они похлопывают меня, и мнут, и обливают водой, и трут, и скребут, а потом, пройдя через весь этот искус, я покоюсь некоторое время на диване, достойном самого султана, потом прохожу еще через одно тяжкое испытание, куда более устрашающее, чем первое, и наконец меня закутывают в мягкие ткани, переносят в царственный покой и укладывают на ложе гагачьего пуха; пышно разодетые евнухи обмахивают меня опахалами, а я дремлю и грежу или любуюсь на богатые занавеси, пушистые ковры, роскошную мебель, картины, и пью восхитительный кофе, и курю умиротворяющий наргиле, и наконец, убаюканный неземными благовониями, струящимися из невидимых курильниц, легким персидским табаком и нежным журчаньем фонтанов, напоминающим шум летнего дождя, погружаюсь в мирный сон.
Такую картину рисовал я себе, начитавшись зажигательных книг о путешествиях. Но это оказалось возмутительным, бесстыдным обманом. Это так же похоже на правду, как нью-йоркские трущобы на сады Эдема. Меня ввели в большой двор, мощенный мраморными плитами; вокруг тянулись одна над другой широкие галереи, устланные протертыми циновками, обнесенные некрашеными перилами и обставленные чем-то вроде колченогих кушеток, на которых лежали грязные старые тюфяки, продавленные девятью поколениями сменявших друг друга клиентов. Здесь пусто, голо, мрачно; двор — как конюшня, а галереи — стойла для людей. Прислуживают здесь полуголые, тощие, как скелеты, жулики, в них нет ни на грош поэзии, романтики, восточного великолепия. От них не исходит благоухание — как раз наоборот. Их голодные глаза и отчаянная худоба откровенно и красноречиво говорят о том, что им насущно необходимо плотно поесть.
Я вошел в одну из каморок, разделся. Грязный заморыш повязал вокруг своих бедер что-то вроде пестрой скатерти и накинул мне на плечи белую тряпку. Если бы там была ванна, то мне было бы самое время помыться, но меня препроводили вниз по лестнице в сырой, скользкий двор, и тотчас мои пятки сверкнули в воздухе; но никто и глазом не моргнул: они этого, конечно, ждали, это входит в перечень размягчающих душу наслаждений, свойственных сему приюту восточной неги. Это, разумеется, достаточно размягчало, но не способствовало хорошему самочувствию. Затем мне дали деревянные башмаки, вернее деревянные скамеечки, которые привязывались к ногам кожаными ремешками (все бы ничего, да только я не ношу обувь пятидесятого размера). Когда я поднимал ногу, скамейки болтались на ремешках, когда опускал, они становились на пол под самым неожиданным и неудобным углом, а иногда и вовсе ложились набок, так что мне грозил вывих лодыжки. Но ведь это все были восточные наслаждения, и я изо всех сил старался наслаждаться.
Меня отвели в другую часть конюшни и уложили на нечто вроде старого соломенного тюфяка, крытого отнюдь не парчой и не персидской шалью, — это была самая обыкновенная подстилка, какие мне случалось видеть в негритянских кварталах Арканзаса. В этой мраморной темнице не было ничего, кроме пяти таких же гробов. Мрачноватая обстановка, что и говорить. Я надеялся, что вот теперь пряные арабские благовония окутают и разнежат меня, — но нет; скелет, обтянутый медно-красной кожей и опоясанный какой-то тряпкой, принес мне воды в стеклянном графине, в горлышко которого была воткнута зажженная курительная трубка с гибким черенком в ярд длиной и медным мундштуком.
Вот оно наконец, знаменитое наргиле, то самое, которое на всех картинках курит турецкий султан. Это уже походило на восточное наслаждение. Я сделал одну затяжку — и этого оказалось вполне достаточно. Дым ворвался в мой желудок, в легкие, заполнил все мои внутренности. Я кашлянул что было сил — и тут началось извержение Везувия. Добрых пять минут я весь дымился, как деревянный дом, в котором бушует пламя. Нет, хватит с меня наргиле! Вкус у дыма мерзостный, а вкус следов, оставленных устами тысяч язычников на медном мундштуке, и того мерзостнее. Я несколько упал духом. Если я теперь когда-нибудь увижу на пачке коннектикутского табака турецкого султана, который сидит по-турецки и курит наргиле с таким видом, словно он и в самом деле блаженствует, я буду знать, что он бесстыдный обманщик.
Воздух в этой мраморной темнице горячий. Когда я основательно прогрелся, меня повели в другую мраморную камеру — сырую, скользкую, насыщенную паром, и уложили на возвышение посредине. Там было очень жарко. Вскоре мой банщик усадил меня подле лоханки с горячей водой, хорошенько окатил меня, надел жесткую рукавицу и стал надраивать меня ею с головы до пят. От моей кожи пошел неприятный запах. Чем больше он тер, тем хуже от меня пахло. Я встревожился и говорю ему:
—Послушайте, я вижу — дела мои плохи. Чем скорее меня похоронят, тем лучше. Зовите моих друзей — ведь на дворе жарко, я того гляди совсем испорчусь.
А он все скреб и скреб как ни в чем не бывало. Немного погодя я заметил, что от его стараний я спал с тела. Он изо всех сил нажимал на рукавицу, и из-под нее выкатывались какие-то трубочки вроде макарон. Для грязи они были слишком белые. Он долго обрабатывал меня, и я становился все тоньше. Наконец я сказал:
—Это тяжкий труд. Чтобы обтесать меня до нужного вам размера, потребуется немало времени. Не проще ли сходить за рубанком. Я обожду.
Он будто не слыхал.
Немного погодя, он принес таз, мыло и что-то вроде конского хвоста. Взбил гору пены, окатил меня ею с головы до пят, даже не предупредив, чтобы я зажмурил глаза, и стал яростно надраивать меня этим конским хвостом, точно шваброй. Потом он вдруг ушел, а я так и остался лежать — белоснежная статуя из мыльной пены. Когда мне надоело ждать, я отправился на розыски. Я нашел его в соседней комнате. Он спал, подпирая стенку. Я разбудил его. Он нимало не смутился. Мы пошли обратно, он облил меня горячей водой, намотал чалму вокруг моей головы, закутал меня в сухую скатерть и, приведя в зарешеченный курятник на галерее, ткнул пальцем в одно из арканзасских лож. Я взгромоздился на него, все еще в глубине души надеясь вдохнуть арабские благовония. Но тщетны были мои надежды.
Пустая, ничем не убранная клетушка никак не располагала к той восточной неге, о которой столько написано. Она больше всего походила на больничную палату. Мой тощий банщик принес наргиле, но я сразу же велел унести его. Потом он принес прославленный на весь мир турецкий кофе, воспетый многими поколениями поэтов, и я ухватился за него, как за последнюю надежду, — только одна она и осталась от всех моих мечтаний о роскоши и неге Востока. И снова обман. Из всех варварских напитков, какие мне когда-либо случалось пробовать, ничего нет хуже турецкого кофе. Чашечка крохотная, вся вымазанная гущей, кофе черный, густой, скверно пахнет и отвратителен на вкус. Гуща оседает в чашке на полдюйма; когда пьешь, она застревает в глотке, щекочет, немилосердно дерет, и потом целый час только и делаешь, что кашляешь да отплевываешься.
На этом окончилось мое знакомство с прославленными турецкими банями, на этом пришел конец и моей мечте о блаженстве, которым там упивается смертный. Это злостное надувательство. Человек, способный наслаждаться этим, способен наслаждаться всякой мерзостью; и тот, кто окружает это ореолом очарования и поэзии, не постесняется воспеть все, что есть в мире скучного, дрянного, унылого и тошнотворного.
Глава VIII. Плавание по Босфору и Черному морю. — «Новоявленный Моисей». — Печальный Севастополь. — Радушный прием в России. — Охота за сувенирами. — Как путешественники составляют свои коллекции.
Мы оставили десяток пассажиров в Константинополе и прошли несравненным Босфором в Черное море. Мы оставили их в когтях знаменитого турецкого гида по прозвищу «Новоявленный Моисей», который уж непременно уговорит их накупить полный трюм розового масла, великолепных турецких одежд и всевозможных занятных, но совершенно бесполезных вещей. «Новоявленный Моисей» упоминается в неоценимых путеводителях Муррея, и ему всегда обеспечен кусок хлеба. Сознание того, что он признанная знаменитость, каждый день приносит ему все новые радости. Однако мы не станем изменять своим привычкам для того только, чтобы потакать капризам гидов; мы ни для кого не станем делать исключение. И невзирая на громкую славу этого гида и на хитрое имя, которым он так гордится, мы называли его, как и всех прочих гидов, Фергюсоном. Из-за этого он все время злился на нас. Между тем мы и не думали его обижать. С тех пор как, не щадя затрат, он вырядился в яркие широчайшие шальвары, желтые, с загнутыми носами туфли, огненную феску, голубую шелковую куртку, подпоясался широким кушаком из узорчатой персидской материи, заткнул за него целую батарею оправленных в серебро огромных пистолетов и подвесил на ремне устрашающую кривую саблю, — он стал считать невыразимым оскорблением, если его называли Фергюсон. Но что ж тут поделаешь? Мы всех гидов зовем Фергюсонами. Ведь нам не под силу выговаривать ужасающие иностранные имена.
Наверно, ни один из городов в России, да и не только в России, не был так сильно разрушен артиллерийским огнем, как Севастополь. И, однако, мы должны быть довольны тем, что побывали в нем, ибо еще ни в одной стране нас не принимали с таким радушием, — здесь мы чувствовали, что достаточно быть американцем, никаких других виз нам уже не требовалось. Не успели мы бросить якорь, как на борт явился посланный губернатором офицер, который осведомился, не может ли он быть нам чем-нибудь полезен, и просил нас чувствовать себя в Севастополе как дома! Если вы знаете Россию, вы поймете, что это было верхом гостеприимства. Русские обычно с подозрением относятся к чужеземцам и терзают их бесконечными отсрочками и придирками, прежде чем выдадут паспорт. Будь мы из любой другой страны, нам и за три дня не удалось бы получить разрешения войти в Севастопольский порт, нашему же пароходу было позволено входить в гавань и покидать ее в любое время. В Константинополе все предупреждали нас быть поосторожнее с паспортами, следить, чтобы все было записано согласно форме и чтобы паспорта всегда были при нас; нам рассказывали о многочисленных случаях, когда англичан и других иностранцев многие дни, недели, даже месяцы задерживали в Севастополе из-за пустяковых неточностей в паспорте, в чем они к тому же не были виноваты. Я потерял свой паспорт и отправился в Россию с паспортом своего соседа по каюте, который остался в Константинополе. Прочитав его приметы в паспорте и взглянув на меня, всякий сразу увидел бы, что у меня с ним сходства не больше, чем с Геркулесом. Поэтому я прибыл в севастопольскую гавань, дрожа от страха, почти готовый к тому, что меня уличат и повесят. Но все время, пока мы были там, мой истинный паспорт величаво развевался над нашими головами — то был наш флаг. И у нас ни разу не спросили иного.
Сегодня у нас на борту побывало множество русской и английской публики, и время прошло очень весело. Все они были прекрасно настроены, и никогда еще наш родной язык не был мне так мил, как в устах англичан в этом далеком краю. Я много разговаривал с русскими просто из дружеского расположения, и то же чувство побуждало их говорить со мной; и я уверен, что беседа доставила удовольствие обеим сторонам, хотя никто из нас не понимал друг друга. Впрочем, я больше разговаривал с англичанами и очень жалею, что мы не можем прихватить кой-кого из них с собой.
Где только мы не побывали сегодня — и всюду встречали радушие и внимание. И никто не спрашивал нас о паспортах.
Несколько высших чиновников предложили нам отправиться морем на небольшой курорт в тридцати милях отсюда и нанести визит императору. Он сейчас отдыхает там. Чиновники обещали позаботиться, чтобы нам был оказан самый сердечный прием. Они обещали, что, если мы согласимся, они не только известят императора телеграммой, но даже пошлют специального курьера, чтобы предупредить о нашем посещении. К сожалению, времени у нас было в обрез, и главное — уголь был на исходе, поэтому мы сочли за благо отказаться от редкостного удовольствия завязать знакомство с настоящим императором.
Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков — полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих полтора года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не видано под солнцем. Ни один дом не остался невредимым, ни в одном нельзя жить. Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы. Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Иные из них такие круглые и аккуратные, словно их просверлили дрелью. Другие пробиты не насквозь, и в стене остался такой ровный, гладкий и четкий след, словно его нарочно шлифовали. Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слезы сочатся из-под них, оставляя на камне темную дорожку.
От одного ноля сражения до другого рукой подать. Малаховский редут был на кургане, что стоит на краю города. Редан — на расстоянии ружейного выстрела от Малахова кургана; до Инкермана — миля, до Балаклавы всего час езды. Траншеи, по которым французы подошли к Малахову кургану и обложили его, были подведены вплотную к его отлогим склонам, так что русские артиллеристы могли бы попасть в противника просто камнем. Снова и снова французы кидались на маленький Малахов курган и всякий раз с огромными потерями откатывались назад. Наконец они выбили русских и захватили курган; русские попытались отступить к городу, но англичане уже завладели Реданом, и огненная стена преградила путь русским, им оставалось лишь вернуться и либо снова завладеть Малаховым курганом, либо погибнуть под огнем его пушек. И они вернулись — и взяли курган, и брали его два или три раза; но даже их отчаянная доблесть была напрасна, и в конце концов им пришлось уступить.
На этом страшном поле брани, где с таким неистовством бушевала смерть, теперь все спокойно — ни звука, ни живой души, кругом безлюдно, безмолвно, на всем печать запустения.
Больше тут нечего было делать, и началась охота за сувенирами. «Квакер-Сити» завалили грудами реликвий. Их тащили с Малахова кургана, с Редана, из Инкермана, из Балаклавы — отовсюду. Тащили пушечные ядра, сломанные шомполы, осколки шрапнели — железного лома хватило бы на целый шлюп. Некоторые приносили даже кости, тащили их издалека, с трудом — и не на шутку огорчались, когда доктор объявлял, что это кости мула или вола. Я был уверен, что уж кто-кто, а Блюхер не упустит такого случая. Он принес на борт полный мешок сувениров и собрался за другим. Но я уговорил его не ходить. Его каюта и так уже превратилась в настоящий музей всякой дряни, собранной им во время путешествия. Теперь он наклеивает ярлыки на свои трофеи. Недавно один из них попался мне на глаза, ярлычок гласил: «Обломок русского генерала». Я вынес его на свет, чтобы лучше разглядеть, — это был обломок лошадиной челюсти с двумя уцелевшими зубами.
— Обломок русского генерала! — сказал я сердито. — Экая чепуха. Неужели вы так ничему и не научитесь?
— Не кипятитесь, старушка ничего не заметит, — только и ответил он, имея в виду свою тетушку.
Блюхер в последнее время не церемонится со своими экспонатами. Пренебрегая всеми правилами, он сваливает их в кучу, а потом преспокойно наклеивает какие попало ярлычки, нимало не заботясь об истине, достоверности или хотя бы правдоподобии. Я сам видел, как он расколол камень пополам и на одну половину наклеил ярлычок «Обломок кафедры Демосфена», а на другую: «Покров с гробницы Абеляра и Элоизы». Случалось, он набирал по обочине дороги горсть мелких камней, приносил их на корабль, и, когда наклеивал на них ярлыки, оказывалось, что они добыты из двадцати знаменитых мест, лежащих друг от друга за тридевять земель. Я, конечно, протестовал против столь грубого посягательства на истину и разум, но все было напрасно. Всякий раз он преспокойно отвечал:
«Это не имеет значения — старушка ничего не заметит». Что тут возразишь? С тех пор как мы, четверо счастливцев, совершили ночную вылазку в Афины, ему доставляет истинное удовольствие оделять всех и каждого на корабле камешками с Марсова холма, где проповедовал апостол Павел. Он подобрал все эти камешки на берегу, напротив того места, где стоял наш корабль, но уверяет, будто раздобыл их у одного из нашей четверки. Впрочем, мне незачем изобличать обман — Блюхеру от этого удовольствие, а остальным никакого вреда. Он говорит, что до тех пор, пока берег в пределах досягаемости, его запас сувениров с Марсова холма не иссякнет. Что ж, он ничуть не хуже других. Как я не раз замечал, все путешественники восполняют пробелы в своих коллекциях подобным же образом. Теперь у меня до самой смерти не будет доверия ко всяким сувенирам и реликвиям.
Глава IX. Девять тысяч миль на восток. — Российское подобие американского города. — Запоздалая благодарность. — Мы посетили самодержца всея Руси.
Мы заехали так далеко на восток — на сто пятьдесят пять градусов долготы от Сан-Франциско, — что моим часам уже не под силу угнаться за временем. Они совсем сбились с толку и остановились. По-моему, они поступили мудро. Между Севастополем и Тихоокеанским побережьем разница во времени огромная. Когда здесь шесть часов утра, в Калифорнии идет еще позапрошлая неделя. Вполне извинительно, что мы немного запутались во времени. Эти неурядицы и волнения из-за дней и часов вконец измучили меня, я опасался, что это не пройдет мне даром и ко мне уж никогда не вернется чувство времени; но когда оказалось, что я безошибочно угадываю время обеда, блаженное спокойствие снизошло на меня и всем страхам и сомнениям пришел конец.
От Севастополя до Одессы часов двадцать пути; Одесса — самый северный порт на Черном море. Мы вошли сюда главным образом за углем. В Одессе сто тридцать три тысячи жителей, и она растет быстрее любого небольшого города вне Америки. Одесса открытый порт и крупнейший в Европе хлебный рынок. Одесский рейд полон кораблей. Сейчас ведутся работы по превращению открытого рейда в обширную искусственную гавань. Она будет со всех сторон окружена массивными каменными причалами, один из них будет выдаваться в море по прямой линии более чем на три тысячи футов.
Сойдя на берег, я ступил на мостовые Одессы, и впервые после долгого-долгого перерыва наконец почувствовал себя совсем как дома. По виду Одесса точь-в-точь американский город: красивые широкие улицы, да к тому же прямые; невысокие дома (в два-три этажа) — просторные, опрятные, без всяких причудливых украшений; вдоль тротуаров наша белая акация; деловая суета на улицах и в лавках; торопливые пешеходы; дома и все вокруг новенькое с иголочки, что так привычно нашему глазу; и даже густое облако пыли окутало нас словно привет с милой нашему сердцу родины, — так что мы едва не пролили благодарную слезу, едва удержались от крепкого словца, как то освящено добрым американским обычаем. Куда ни погляди, вправо, влево, — везде перед нами Америка! Ничто не напоминает нам, что мы в России. Мы прошлись немного, упиваясь знакомой картиной, — но вот перед нами выросла церковь, пролетка с кучером на козлах, — и баста! — иллюзии как не бывало. Купол церкви увенчан стройным шпилем и закругляется к основанию, напоминая перевернутую репу, а на кучере надето что-то вроде длинной нижней юбки без обручей. Все это заграничное, и экипажи тоже выглядят непривычно, но все уже наслышаны об этих диковинках, и я не стану их описывать.
Пароход должен был простоять здесь всего сутки, чтобы запастись углем; из путеводителей мы с радостью узнали, что в Одессе совершенно нечего осматривать, — итак, перед нами целый свободный день, спешить некуда и можно сколько угодно бродить по городу и наслаждаться бездельем. Мы слонялись по базарам и с неодобрением отзывались о нелепых и удивительных нарядах крестьян из дальних деревень, изучали жителей города, насколько это возможно по внешнему виду, и в довершение всех удовольствий до отвала наелись мороженым. В пути мы не часто лакомимся мороженым, и уж дорвавшись до него — кутим вовсю. Дома мы никогда не соблазнялись мороженым, но теперь взираем на него с восторгом, ибо в этих пышущих жаром восточных странах его не часто встретишь.
Нам попались всего-навсего два памятника, и это тоже было истинное благодеяние. Один — бронзовая статуя герцога де Ришелье[151], внучатого племянника прославленного кардинала. Он стоит над морем на широком красивом проспекте, а от его подножья вниз к гавани спускается гигантская каменная лестница — в ней двести ступеней, каждая пятидесяти футов длиной, и через каждые двадцать ступеней — просторная площадка. Это великолепная лестница, и когда люди взбираются по ней, они кажутся издали просто муравьями. Я упоминаю об этой статуе и лестнице потому, что у них есть своя история. Ришелье основал Одессу, отечески заботился о ней, посвятил ей свой изобретательный ум, умел мудро рассудить, что послужит ей на благо, не скупясь отдавал ей свое богатство, привел ее к подлинному процветанию, так что она, пожалуй, еще сравняется с величайшими городами Старого Света, на собственные деньги выстроил эту великолепную лестницу и... И что же! Люди, для которых он столько сделал, равнодушно смотрели, как он однажды спускался по этим самым ступеням, — он был стар, беден, у него ничего не осталось, — и никто не помог ему. А когда много лет спустя он умер в Севастополе, почти нищий, всеми забытый, они устроили собрание, щедро жертвовали по подписке и вскоре воздвигли этот прекрасный памятник — подлинное произведение искусства — и назвали его именем одну из главных улиц города. Это напоминает мне слова матери Роберта Бернса, — когда ему воздвигли величественный памятник, она сказала: «Ах, Робби, ты просил у людей хлеба, а они тебе подали камень».
В Одессе, как и в Севастополе, нам горячо советовали посетить императора. Его величеству послали телеграмму, и он выразил готовность удостоить нас аудиенции. Итак, мы снимаемся с якоря и отплываем к императорской резиденции. Какая теперь поднимется суматоха! Какие пойдут торжественные совещания, сколько будет создано важных комитетов!.. Как все примутся начищать и наглаживать фраки и белые шелковые галстуки! Стоит мне вообразить, сколь устрашающее и грандиозное испытание нам предстоит, как мое пылкое желание побеседовать с настоящим императором заметно остывает. Куда девать руки? А ноги? А с самим собой что прикажете делать?
Глава X. Летний дворец царя. — Готовимся к тяжелому испытанию. — На приеме у императора. — В гостях у великого князя. — Очаровательная вилла. — Визит генерал-губернатора. — Высокопоставленные гости.
Уже три дня, как мы бросили якорь в Ялте. Место это живо напомнило мне Сьерра-Неваду. Высокие суровые горы стеной замыкают бухту, их склоны щетинятся соснами, прорезаны глубокими ущельями, то здесь, то там вздымается к небу седой утес, длинные прямые расселины круто спускаются от вершин к морю, отмечая путь древних лавин и обвалов, — все как в Сьерра-Неваде, верный ее портрет.
Деревушка Ялта гнездится внизу амфитеатра, который, отступая от моря, понемногу подымается и переходит в крутую горную гряду, и кажется, что деревушка эта тихо соскользнула сюда откуда-то сверху. В низине раскинулись парки и сады знати, в густой зелени то там, то тут вдруг сверкнет, словно яркий цветок, какой-нибудь дворец. Очень красивое место.
У нас на борту побывал консул Соединенных Штатов — одесский консул. Мы собрались в салоне и потребовали, чтобы он объяснил, да поскорее, как нам вести себя, чтобы не ударить лицом в грязь. Он произнес целую речь. И первые же его слова развеяли в прах все наши надежды: он ни разу не присутствовал на дворцовых приемах (троекратное «увы» консулу). Однако он бывал на приемах у одесского генерал-губернатора и не раз беседовал с людьми, принятыми при русском и иных дворах и, уж поверьте, прекрасно представляет себе, что за испытание нам предстоит (новая вспышка надежды). Он сказал, что нас много, а летний дворец невелик — просто большой особняк, поэтому нас, наверное, примут по-летнему — в саду; мы должны будем стать все в ряд — мужчины во фраках, белых лайковых перчатках и при белых галстуках, дамы в светлых платьях, шелковых или еще каких-нибудь; в положенное время — ровно в полдень — появится император, окруженный свитой в блестящих мундирах, и медленно пройдет вдоль строя, — одному кивнет, другому скажет несколько слов. Едва император появится, все лица должны мгновенно озариться радостной, восторженной улыбкой — улыбкой любви, благодарности, восхищения, — и все разом должны поклониться, без подобострастия, но почтительно и с достоинством; через пятнадцать минут император удалится во дворец, и мы можем отправляться домой. У нас словно гора упала с плеч. Видимо, это не так уж трудно. Никто из нас не усомнился, что сумеет, поупражнявшись немного, стоять в шеренге, особенно когда рядом стоят другие; никто не усомнился, что сумеет поклониться, не наступив на фалды фрака и не сломав себе шею, — короче говоря, мы уверовали, что сумеем разыграть все номера этого представления — кроме универсальной улыбки. Консул сказал также, что нам следует составить небольшой адрес его величеству и вручить его кому-нибудь из адъютантов, а уж тот в надлежащую минуту поднесет этот адрес императору. Итак, пяти джентльменам было поручено подготовить сей документ, остальные пятьдесят с бледными улыбками бродили по кораблю — репетировали. Весь следующий день у всех у нас был такой вид, словно мы на похоронах, где все огорчены чьей-то смертью, но рады, что это уже позади; где все улыбаются — и, однако, убиты горем.
Особый комитет съехал на берег и нанес визит его превосходительству генерал-губернатору, дабы узнать нашу судьбу. Три часа нетерпеливого ожидания и неизвестности, и вот они вернулись и сообщили, что император примет нас завтра в полдень, пришлет за нами экипажи и самолично выслушает адрес. Кроме того, мы получили приглашение посетить дворец великого князя Михаила. Каждому было ясно, что нам дают понять, сколь искренни дружеские чувства России к Америке, если уж даже частных лиц удостаивают такого любезного приема.
Мы проехали в экипажах три мили и в назначенный час собрались в прекрасном саду, перед императорским дворцом.
Мы стали в круг под деревьями у самых дверей, ибо в доме не было ни одной комнаты, где можно было бы без труда разместить больше полусотни человек; через несколько минут появился император с семейством; раскланиваясь и улыбаясь, они вошли в наш круг. С ними вышло несколько первых сановников империи, но не в парадных мундирах. Каждый поклон его величество сопровождал радушными словами. Я воспроизведу его слова. В них чувствуется характер, русский характер: сама любезность, и притом неподдельная. Француз любезен, но зачастую это лишь официальная любезность. Любезность русского идет от сердца, это чувствуется и в словах и в тоне, — поэтому веришь, что она искренна. Как я уже сказал, царь перемежал свои слова поклонами.
— Доброе утро... Очень рад... Весьма приятно... Истинное удовольствие... Счастлив видеть вас у себя!
Все сняли шляпы, и консул заставил царя выслушать наш адрес. Он стерпел это не поморщившись, затем взял нашу нескладную бумагу и передал ее одному из высших офицеров для отправки ее в архив, а может быть и в печку. Он поблагодарил нас за адрес и сказал, что ему очень приятно познакомиться с нами, особенно потому, что Россию и Соединенные Штаты связывают узы дружбы. Императрица сказала, что в России любят американцев, и она надеется, что в Америке тоже любят русских. Вот и все речи, какие были тут произнесены, и я рекомендую их как образец краткости и простоты всем начальникам полиции, когда они награждают полисменов золотыми часами. Потом императрица запросто (для императрицы) беседовала с дамами; несколько джентльменов затеяли довольно бессвязный разговор с императором; князья и графы, адмиралы и фрейлины непринужденно болтали то с одним, то с другим из нас, а кто хотел, тот выступал вперед и заговаривал с маленькой скромной великой княжной Марией, царской дочерью. Ей четырнадцать лет, она светловолоса, голубоглаза, застенчива и миловидна. Говорили все по-английски.
На императоре была фуражка, сюртук, панталоны — все из какой-то гладкой белой материи, бумажной или полотняной, без всяких драгоценностей, без орденов и регалий. Трудно представить себе костюм, менее бросающийся в глаза. Император высок, худощав, выражение лица у него решительное, однако очень приятное. Нетрудно заметить, что он человек добрый и отзывчивый. Когда он снимает фуражку, в лице его появляется какое-то особенное благородство. В его глазах нет и следа той хитрости, которую все мы заметили у Луи-Наполеона.
На императрице и великой княжне были простые фуляровые платья (а может быть, и из шелкового фуляра — я в этом не разбираюсь) в голубую крапинку и с голубой отделкой; на обеих — широкие голубые пояса, белые воротнички, скромные муслиновые бантики у горла; соломенные шляпы с низкими тульями, отделанные голубым бархатом, небольшие зонтики и телесного цвета перчатки. На великой княжне — туфли без каблуков. Об этом мне сказала одна из наших дам, сам я не заметил, так как не смотрел на ее туфли. Я с удовольствием увидел, что волосы у нее свои, а не накладные, заплетены в тугие косы и уложены на затылке, а не падают беспорядочной гривой, которую принято называть «водопадом» и которая так же похожа на водопад, как окорок на Ниагару. Глядя на доброе лицо императора и на его дочь, чьи глаза излучали такую кротость, я подумал о том, какое огромное усилие над собою пришлось бы, верно, сделать царю, чтобы обречь какого-нибудь преступника на тяготы ссылки в ледяную Сибирь, если бы эта девочка вступилась за него. Всякий раз, когда их взгляды встречались, я все больше убеждался, что стоит ей, такой застенчивой и робкой, захотеть, и она может забрать над ним огромную власть. Сколько раз ей представляется случай управлять самодержцем всея Руси, каждое слово которого закон для семидесяти миллионов человек! Она просто девочка, я видел таких сотни, но никогда еще ни одна из них не вызывала во мне такого жадного интереса. В наших скучных буднях новые, непривычные ощущения — редкость, но на сей раз мне посчастливилось. Все здесь вызывало мысли и чувства, в которых ничто еще не поблекло, ничто не приелось. Право же, странно, более чем странно сознавать, что вот стоит под деревьями человек, окруженный кучкой мужчин и женщин, и запросто болтает с ними, человек как человек, — а ведь по одному его слову корабли пойдут бороздить морскую гладь, по равнинам помчатся поезда, от деревни к деревне поскачут курьеры, сотни телеграфов разнесут его слова во все уголки огромной империи, которая раскинулась на одной седьмой части земного шара, и несметное множество людей кинется исполнять его приказ. У меня даже было смутное желание получше разглядеть его руки, чтобы убедиться, что он, как все мы, из плоти и крови. Вот он передо мной — человек, который может творить такие чудеса, — и однако, если я захочу, я могу сбить его с ног. Дело простое, и все же явно ни с чем не сообразное, — все равно что опрокинуть гору или стереть с лица земли целый континент. Подверни он ногу, и телеграф понесет эту весть над горами и долами, над необитаемыми пустынями, по дну морскому, и десять тысяч газет раззвонят об этом по всему свету; заболей он тяжело — и не успеет еще заняться новый день, а во всех странах уже будут знать об этом; упади он сейчас бездыханный — и от его падения закачаются троны полумира! Если бы я мог украсть его сюртук, я не колебался бы ни секунды. Когда я встречаю подобного человека, мне всегда хочется унести что-нибудь на память о нем.
Мы уже привыкли, что дворцы нам показывает какой-нибудь ливрейный лакей, весь в бархате и галунах, и требует за это франк, но, побеседовав с нами полчаса, император всероссийский и его семейство сами провели нас по своей резиденции. Они ничего не спросили за вход. По-видимому, им доставляло удовольствие показывать нам свои покои.
Полчаса мы бродили по дворцу, восхищаясь уютными покоями и богатой, но совсем не парадной обстановкой; и наконец царская фамилия сердечно распрощалась с нами и отправилась считать серебряные ложки.
Мы получили приглашение посетить расположенный по соседству дворец цесаревича, наследника русского престола. Сам он был в отъезде, но князья, графини, графы — так же непринужденно, как император в своем дворце, — показали нам его апартаменты, ни на минуту не прерывая оживленной беседы.
Шел второй час. Великий князь Михаил еще прежде пригласил нас в свой дворец, находящийся в миле от царского[152], и мы отправились туда. Дорога отняла у нас всего двадцать минут. Здесь прелестно. Красивый дворец со всех сторон обступают могучие деревья старого парка, раскинувшегося среди живописных утесов и холмов; отсюда открывается широкий вид на покрытое рябью море. По всему парку в укромных тенистых уголках расставлены простые каменные скамьи; тут и там струятся прозрачные ручейки, а озерца с поросшими шелковистой травой берегами так и манят к себе; сквозь просветы в густой листве сверкают и блещут прохладные фонтаны, — они устроены так искусно, что бьют, кажется, прямо из стволов могучих деревьев; миниатюрные мраморные храмы глядят вниз с серых древних утесов; из воздушных беседок открывается широкий вид на окрестности и на морской простор. Дворец построен в стиле лучших образцов греческой архитектуры, великолепная колоннада охватывает внутренний двор, обсаженный редкостными благоухающими цветами, а посредине бьет фонтан — он освежает жаркий летний воздух и, может быть, разводит комаров, а пожалуй, что и нет.
Великий князь с супругой вышли нам навстречу, и церемониал представления был так же прост, как у императора. Через несколько минут беседа снова потекла как по маслу. На веранде появилась императрица, а великая княжна вошла в толпу гостей. Они приехали сюда раньше нас. Еще через несколько минут прибыл верхом и сам император. Это было очень приятно. Вы вполне оцените такое внимание, если вам случалось бывать в гостях у монархов и чувствовать, что вы, пожалуй, успели надоесть хозяину, — впрочем, я полагаю, столь высокие особы не стесняясь отделаются от вас, когда вы им больше не будете нужны.
Великий князь Михаил — третий по старшинству брат императора, ему лет тридцать семь, и у него такая царственная наружность, как ни у кого в России. Ростом он выше самого императора, прямизною стана настоящий индеец, а осанкой напоминает одного из тех гордых рыцарей, что знакомы нам по романам о крестовых походах. По виду это человек великодушный — он в два счета столкнет в реку своего врага, но тут же и сам прыгнет за ним и, рискуя жизнью, выудит его на берег. Судя по рассказам, он смел и у него благородная натура. Он, видно, хотел показать нам, что американцы — желанные гости русской императорской семьи, ибо всю дорогу от Ялты до царского дворца он сопровождал нас верхом, выслал вперед своих адъютантов, приказав им позаботиться, чтобы ничто не помешало нашему проезду, и всякий раз, когда в том была надобность, спешил предложить свою помощь. Мы обращались с ним запросто, так как еще не знали, кто он такой. Теперь мы узнали его, оценили и его дружеское расположение и оказанное нам покровительство, чего мы, без сомнения, не дождались бы ни от одного великого князя в целом свете. Он мог послать с нами любого из своих бесчисленных приближенных, но предпочел взять этот труд на себя.
На великом князе был красивый яркий мундир казачьего офицера, на великой княгине — белое платье из альпака, отделанное черной зубчатой тесьмой, и серая шляпка с серым пером. Она молода и миловидна, скромна и без претензий, и притом обаятельно любезна.
Нас провели по всему дому, потом в сопровождении титулованных особ мы обошли весь парк и наконец, около половины третьего, вернулись во дворец завтракать. У них это называется завтраком, но по-нашему — это холодная закуска. Нам подали вино двух сортов, чай, хлеб, сыр, холодное мясо, и все это сервировали на столах посреди гостиной и на верандах — всюду, где было удобно. Трапеза прошла без всяких церемоний. Это было нечто вроде пикника. Я еще раньше слыхал, что нас собираются угощать завтраком, но Блюхер уверял меня, что это сын Бэйкера надоумил его императорское высочество. Едва ли, хотя это очень на него похоже. По милости Бэйкера-младшего все мы на корабле живем под страхом голодной смерти: он вечно голоден. Говорят, он ходит по каютам в отсутствие хозяев и пожирает все мыло. Говорят, он ест даже паклю. Говорят, в часы досуга он не брезгует ничем, но всему предпочитает паклю. За обедом он обходится без пакли, но на закуску или когда он ничем не занят — только подавай. Разговаривать с ним неприятно, его дыхание отдает горечью, и на зубах налип вар. Мальчишка, конечно, мог попросить, чтобы нас покормили завтраком, но я все-таки надеюсь, что он этого не делал. Как бы там ни было, все сошло гладко. Высокородный хозяин переходил от группы к группе, помогал расправляться с угощением и не давал угаснуть беседе, а великая княгиня поддерживала разговор с теми, кто устроился на веранде или, насытившись, покидал гостиную.
Княжеский чай был отменно хорош. В него выжимали лимон или подливали ледяного молока — кому как нравилось. С лимоном вкуснее. Чай привозят из Китая сушей, морское путешествие ему вредно.
Когда пришло время уходить, мы распрощались с нашими высокопоставленными хозяевами, и они, счастливые и довольные, отправились пересчитывать свои серебряные ложки.
Мы провели в гостях у царских особ добрых полдня и чувствовали себя все время так же легко и непринужденно, как на нашем корабле. А я-то был уверен, что в императорском дворце разгуляешься не больше, чем в лоне Авраамовом. Я думал, что императоры люди страшные. Я думал, они только и делают, что восседают на тронах, увенчанные великолепными коронами, в красных бархатных халатах с нашитыми на них горностаевыми хвостиками, и хмурым взглядом озирают своих приближенных и подданных и посылают на казнь великих князей и княгинь. Однако, когда мне посчастливилось проникнуть за кулисы и посмотреть на них дома, в кругу семьи, оказалось, что они до удивления похожи на простых смертных. Дома они куда приятнее, чем во время пышных приемов. Одеваться и вести себя, как все, для них так же естественно, как для любого из нас положить себе в карман карандаш, который мы на минутку взяли у приятеля. Но отныне я уже не смогу верить в сверкающих мишурой театральных королей. И это очень прискорбно. Бывало, при их появлении я так восхищался. Но теперь я лишь отвернусь печально и промолвлю:
— Нет, не то... не те это короли, в обществе которых я привык вращаться.
Когда, напыщенные и важные, они будут шествовать по сцене в сверкающих алмазами коронах и в пышных одеждах, я вынужден буду заметить, что все монархи, с которыми я знаком, носили самое обыкновенное платье и не шествовали, а ходили. А когда они появятся на сцене, со всех сторон окруженные телохранителями-статистами в шлемах и жестяных нагрудниках, моя святая обязанность будет довести до сведения невежд, — и я с удовольствием сделаю это, — что ни возле моих знакомых коронованных особ, ни в их домах я никогда не видел солдат.
Могут подумать, что мы слишком засиделись в гостях или вообще вели себя неподобающим образом, но ничего такого не произошло. Все чувствовали ответственность, возложенную на нас этой необычной миссией, — ведь мы представляли не правительство Америки, а ее народ, — поэтому каждый изо всех сил старался как можно лучше исполнить этот высокий долг.
Со своей стороны царская фамилия несомненно считала, что, принимая нас, она может выказать свое отношение к народу Америки куда лучше, чем если бы осыпала любезностями целый взвод полномочных послов; и потому они со всем вниманием отнеслись к этому приему, который должен был знаменовать их доброе расположение и дружеские чувства к нашей стране. И мы так и поняли их приветливость, поняли, что она адресована не лично нам. Но не скрою, каждый из нас был исполнен гордости оттого, что его принимают как представителя нации; и без сомнения, каждый гордился своей страной, гражданам которой здесь оказывают столь радушный прием.
С тех самых пор, как мы бросили якорь в Ялте, наш поэт вынужден был наложить печать молчания на уста свои. Сперва, когда стало известно, что нас примет русский император, его красноречие забило фонтаном, и он круглые сутки обрушивал на нас несусветный вздор. Если раньше мы тревожились, не зная, как держаться и что делать с собой, то тут нами овладела иная тревога: что делать с нашим поэтом. В конце концов мы решили эту задачу. Мы предложили ему выбор: либо он поклянется страшной клятвой, что не произнесет ни единой строчки своих стихов, пока мы находимся в царских владениях, либо останется под стражей на борту, пока мы не вернемся в Константинополь. Он долго не хотел примириться с этим, но наконец сдался. Мы вздохнули с облегчением. Быть может, свирепый читатель захочет познакомиться с образчиком его творчества? Я никого не хочу обидеть этим эпитетом. Я употребил его лишь потому, что обращение «благосклонный читатель» давно приелось и любая замена, по-моему, будет приятным разнообразием.
Помилуй и сохрани нас и последи засим,
Чтоб сладко мы ели и пили по дороге в Иерусалим.
Человек ведь предполагает, и так тому быть как раз,
А время ждать не станет никого — и даже нас.
Море весь день было непривычно бурное. Однако это не помешало нам приятно провести время. Посетители наводнили наш корабль. Приехал генерал-губернатор, и мы салютовали ему девятью выстрелами. Он явился в сопровождении своего семейства. По пути его следования — от кареты до мола — расстелили ковры, хотя я уже видел, что, когда он был не при исполнении служебных обязанностей, он прекрасно обходился без всяких ковров. Быть может, подумал было я, он навел на свои башмаки какой-нибудь сверхъестественный глянец и хочет во что бы то ни стало сохранить его? Но я смотрел с пристрастием и не заметил, чтобы они сияли больше обычного. А может быть, в прошлый раз он просто позабыл захватить с собой ковер, во всяком случае он обошелся без него. Генерал-губернатор чрезвычайно приятный старый джентльмен; он всем нам понравился, особенно Блюхеру. Когда он прощался с нами, Блюхер просил его снова побывать у нас и непременно прихватить с собой ковер.
К нам приехал и князь Долгорукий с двумя высшими офицерами флота, которых мы видели вчера на приеме. Поначалу я был с ними довольно холоден, ибо, раз уж я бываю у императоров, мне не пристало держаться чересчур фамильярно с людьми, о которых я знаю только понаслышке и с чьим нравственным обликом и положением в обществе не имею возможности досконально ознакомиться. Итак, на первых порах я счел за благо быть посдержаннее. Князья, графы, адмиралы — все это очень хорошо, сказал я себе, но ведь они не то, что императоры, а разборчивость в знакомствах никогда не помешает.
Приехал и барон Врангель. Одно время он был русским послом в Вашингтоне. Я рассказал ему о своем дядюшке, который в прошлом году упал в шахту и переломился пополам. Это чистейшая выдумка, но я не мог позволить себе только из-за недостатка изобретательности спасовать перед первым встречным, который на манер Мюнхгаузена будет хвастаться передо мной своими поразительными приключениями. Барон очень приятный человек и, по слухам, пользуется величайшим доверием и уважением императора.
Среди гостей был и барон Унгерн-Штернберг, шумный старый вельможа, душа нараспашку. Это деятельный, предприимчивый человек, сын своего времени. Он главный директор русских железных дорог — в некотором роде железнодорожный король. Благодаря его энергии Россия в этой области достигла прогресса. Он много путешествовал по Америке. Говорит, что очень успешно использует на своих дорогах труд каторжников. Они работают хорошо, ведут себя тихо и мирно. Теперь у него работают около десяти тысяч каторжников. Я воспринял это как новый вызов моей находчивости и не ударил лицом в грязь. Я сказал, что в Америке на железных дорогах работают восемьдесят тысяч каторжников — все приговоренные к смертной казни за убийство с заранее обдуманным намерением. И пришлось ему прикусить язык. Нас посетил и генерал Тотлебен (знаменитый защитник осажденного Севастополя) и множество менее высоких армейских и флотских чинов, а также немало неофициальных гостей — русских дам и господ. К завтраку, разумеется, подали шампанское, но человеческих жертв не было. Тостам и шуткам не было конца, однако речей не произносили, если не считать той, в которой благодарили генерал-губернатора, а в его лице царя и великого князя, за гостеприимство, и ответного слова генерал-губернатора, в котором он от лица царя благодарил за эту речь, и пр. и пр.
Глава XI. Возвращение в Константинополь. — Наш визит к императору в изображении матросов. — Древняя Смирна. — Восточное великолепие — обман. — Пророчества ученых паломников. — Обходительные армянские девушки.
Мы вернулись в Константинополь и, проведя день-два в утомительных хождениях по городу и поездках в каиках по Золотому Рогу, пошли дальше. Мы миновали Мраморное море и Дарданеллы и направились к новым землям — во всяком случае, новым для нас — к берегам Азии. До сих пор знакомство у нас с ней было только шапочное, во время очень приятных поездок в Скутари и по его окрестностям.
Мы прошли между Лемносом и Митиленой и разглядели их не лучше, чем Эльбу и Балеарские острова, — едва видимые сквозь нависшую над ними дымку, они казались нам издали двумя огромными, маячащими в тумане китами. Отсюда мы повернули на юг и принялись изучать по путеводителям прославленную Смирну.
А на баке матросы день и ночь забавлялись и изводили нас, разыгрывая в лицах наш визит к императору. Наш адрес императору начинался так:
«Мы — горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения, и потому ничто не оправдывает нашего появления перед лицом вашего величества, кроме желания лично выразить признательность властителю государства, которое, по свидетельству доброжелателей и недругов, всегда было верным другом нашего любимого отечества».
Третий помощник кока, увенчанный блестящей жестяной миской и царственно задрапированный в скатерть, сплошь усеянную сальными и кофейными пятнами, держа в руках скипетр, до странности похожий на скалку, прошествовал по ветхому ковру и взгромоздился на якорную лебедку, не обращая внимания на обдававшие его брызги, а камергеры, князья и адмиралы, перемазанные смолой, с обветренными загорелыми лицами, окружили его, вырядившись со всем шиком, какой только может быть достигнут при помощи лоскутов брезента и отрывков старых парусов. Потом, соорудив на скорую руку некое подобие «водопадов», кринолинов, белых лайковых перчаток и фраков, свободные от вахты матросы превратились в малопривлекательных красавиц и неуклюжих паломников, с важностью поднялись по трапу и, низко кланяясь, стали расплываться в таких немыслимых, в таких замысловатых улыбках, которые свели бы в гроб любого монарха. Потом перемазанный с головы до пят палубный матрос, изображавший консула, вытащил какой-то грязный клочок бумаги и принялся по складам читать:
«Его императорскому величеству, Александру II, русскому императору:
Мы — горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения, и потому ничто не оправдывает нашего появления перед лицом вашего величества...»
Император. Так за каким чертом вы сюда пожаловали?
«...кроме желания лично выразить признательность властителю государства, которое...»
Император. А ну вас с вашим адресом... Прочтите его полиции. Господин камергер, отведите этих людей к моему брату, великому князю, да накормите получше. Адью! Я счастлив... Я весьма рад. Я в восторге... Вы мне надоели. Адью, адью... Убирайтесь! Первый царский казначей пусть проверит, все ли серебряные ложки целы.
На этом представление заканчивается, но когда сменяется вахта, все начинается сначала, причем каждый раз спектакль обрастает новыми выдумками и остротами. С утра до ночи только и слышишь избранные места из всем надоевшего адреса. Обожженные солнцем матросы спускаются с верхней площадки фокмачты и скромно рекомендуются «горсточкой частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия» и т. д., хлопочущие у топок в недрах корабля кочегары, словно извиняясь за свои черные лица и неказистую одежду, просят не забывать, что они горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия и т. д., и когда в полночь на корабле раздается крик: «Восемь склянок! Вахтенные левого борта, подъем!» — вахтенные левого борта, зевая и потягиваясь, появляются на палубе все с той же неизменной присказкой: «Есть, есть, сэр! Мы — горсточка частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, скромно, как и приличествует людям, не занимающим никакого официального положения...»
Так как я был членом комитета, составлявшего адрес, эти насмешки глубоко уязвляли меня. И всякий раз, как я слышал, что какой-нибудь матрос объявляет себя горсточкой частных граждан Америки, путешествующих единственно ради собственного удовольствия, я от души желал ему свалиться за борт, чтоб в его горсточке стало хоть одним гражданином меньше. Никогда еще ни одна фраза не была мне так ненавистна, как начало этого адреса императору! — и все по милости наших матросов.
В портовом городе Смирне, где началось наше знакомство с достопримечательностями Азии, сто тридцать тысяч жителей; домá в нем тесно лепятся друг к другу; и, так же как в Константинополе, здесь нет пригородов. На окраинах, как и в центре, жилища жмутся одно к одному, и за последними домами сразу начинается голая, без всяких построек, равнина. Смирна ничем не отличается от других городов Востока. Иными словами, жилища мусульман и здесь темны, мрачны и неуютны, как могилы; улицы кривые, мощенные нетесаным камнем и узкие, как черная лестница! Они постоянно увлекают вас не туда, куда вам нужно, и выводят на самые неожиданные места; почти вся торговля сосредоточена на больших крытых базарах, где, как ячейки в сотах, лепятся друг к другу бесчисленные лавчонки, каждая не больше самого обыкновенного чулана, и весь этот улей прорезан сетью узких проходов, по которым с трудом протискивается навьюченный верблюд и которые словно только для того и существуют, чтобы чужестранец окончательно сбился и заплутался; всюду грязь, блохи, тощие, унылые псы; всюду толпится народ; куда ни взглянешь — всюду, как на каком-то буйном маскараде, самые нелепые наряды; двери лавок распахнуты, и с улицы видны мастеровые за работой; от многоголосого нестройного шума звенит в ушах; и все звуки перекрывает крик муэдзина, который с высокого минарета призывает к молитве правоверных бездельников; но сильнее чем призывы к молитве, и уличный шум, и диковинные одежды, вас поразит и запомнится вам на всю жизнь букет магометанских ароматов, по сравнению с которым даже дух китайского квартала покажется сладостным, точно благоухание зажаренного тельца, щекочущие ноздри блудного сына. Вот она восточная роскошь, вот оно восточное великолепие! Мы всю жизнь читаем о них, но постичь их можно, лишь увидев собственными глазами. Смирна очень древний город. Он не раз упоминается в Библии, в нем побывали один-два апостола, и здесь стояла одна из семи церквей, о которых говорится в апокалипсисе. В Священном Писании символом этих церквей служат семь светильников, и предначертано, что Смирне будет дан «венец жизни», но при одном условии. А условие гласит: «быть верной до смерти». Смирна не сохранила неколебимой веры, но паломники, посещающие ее, считают, что она лишь чуть-чуть погрешила против этого условия, ведь недаром она теперь носит венец жизни: она стала большим городом, здесь процветает торговля, кипит деятельность, в то время, как другие города, в которых стояли остальные шесть церквей и которым не был обещан венец жизни, исчезли с лица земли. С деловой точки зрения Смирна и в самом деле все еще владеет венцом жизни. За восемнадцать столетий счастье попеременно то улыбалось ей, то изменяло, ею правили государи, исповедовавшие самые разные веры, но, насколько нам известно, в ней все это время (за исключением тех периодов, когда она оставалась совсем безлюдной) сохранялась хотя бы небольшая община христиан, «верных до смерти». Смирнская церковь единственная, которой апокалипсис не сулит никаких бед, и, единственная из всех, она стоит по сей день.
Судьба Эфеса, расположенного в сорока милях отсюда, где стояла вторая из этих церквей, сложилась по-иному. «Светильник» был удален из города. Огонь его погашен. Паломники, всегда готовые находить в Библии пророчества, даже когда их там и нет, бодро и с удовлетворением говорят, что несчастный, разрушенный Эфес пал жертвой пророчества. А ведь в Библии нигде прямо, без оговорок, не предсказывается разрушение Эфеса. Вот что там говорится:
Итак, вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься.
И больше ничего, а все прочие стихи чрезвычайно лестны для Эфеса. Угроза смягчена оговорками. Ведь никто не может доказать, что Эфес не покаялся. Но у современных ученых пророков есть жесточайший обычай без всякого стеснения оделять пророчествами не тех, кому они предназначены. Делают они это, не считаясь с логикой и очевидными фактами. Оба случая, о которых я только что рассказал, прекрасные тому примеры. «Пророчества» совершенно явно направлены против «церквей Эфесской, Смирнской» и так далее, и, однако, паломники упорно относят их к самим городам. Венец жизни был обещан не Смирне и ее торговле, но горсточке христиан, составлявших ее «церковь». Если они были верны до смерти, они уже получили свой венец, но что касается самого города — никакая верность даже вкупе с ухищрениями крючкотворов не в силах одарить его благами, обещанными пророчеством. Торжественные слова Библии говорят о венце жизни, который не померкнет под солнцем долгие века, вечность, а не краткий день, отпущенный городу, что построен руками человеческими и вместе со своими строителями обратится в прах и будет забыт еще прежде, чем истечет ничтожный срок, отпущенный нашему миру от колыбели до могилы.
Выискивать исполнение пророчества там, где вместо него одни только если бы да кабы, чистейшая нелепица. Предположим, что через тысячу лет на месте неглубокой гавани Смирны образуется малярийное болото или что-нибудь иное погубит город; предположим далее, что примерно за то же время гнилое болото, которое затянуло прославленную эфесскую гавань и превратило цветущий город в мертвую пустыню, станет твердой почвой, благоприятной для жизни; предположим, что все пойдет естественным ходом, а именно: Смирна превращается в унылые развалины, а Эфес восстает из праха. Что тогда станут говорить ученые пророки? Они без всякого стеснения скинут со счетов наше время и скажут: «Смирна не была верна до смерти, и ей отказано в венце жизни; Эфес покаялся, и взгляните — светильник не был сдвинут с места его. Смотрите и уверуйте, как чудесно сбылось пророчество!»
Шесть раз Смирна была сравнена с землей. Если бы вместо «венца жизни» она обладала страховым полисом, она бы уже давно успела получить по нему. Но она продолжает владеть венцом жизни, пользуясь тем, что грамматика позволяет по-разному толковать слова пророка, которые на самом деле к ней и не относятся. Должно быть, всякий раз объявлялся какой-нибудь любитель пророчеств и, к величайшему негодованию Смирны и ее жителей, изрекал: «Дивитесь! Сбылось пророчество! Смирна не была «верна до смерти», и вот — венец жизни упал с ее главы. Истинно говорю вам — это достойно изумления!»
Подобные примеры плохо влияют на людей. Они побуждают неуважительно говорить о священных предметах. Тупоголовые истолкователи Библии и безмозглые проповедники и учителя наносят больший ущерб религии, чем при всем старании могут возместить здравомыслящие, благонамеренные священники. Не слишком разумно присуждать венец жизни городу, который разрушали шесть раз. А те мудрецы, которые выворачивают пророчество наизнанку, уверяя, что город обречен гибели и запустению, поступают ничуть не умнее, ибо, к несчастью для них, Смирна сейчас процветает. Все это только льет воду на мельницу неверия.
Значительная часть города безраздельно принадлежит туркам, евреи живут в своих особых кварталах, франки в своем, также и армяне. Последние, разумеется, исповедуют христианскую веру. Дома у них большие, чистые, просторные, полы красиво выложены черными и белыми мраморными плитами, во многих есть внутренние дворики с великолепным цветником и искрящимся на солнце фонтаном, куда выходят двери всех комнат. Просторная прихожая ведет к парадной двери, и здесь женщины проводят чуть ли не весь день. Когда спадает дневной зной, они наряжаются в свои лучшие одежды и появляются в дверях. Все они миловидные, необыкновенно чистенькие и опрятные, и вид у них такой, будто их только что вынули из коробки. Некоторые молодые женщины — я бы даже сказал многие — очень красивы; как правило, они чуть-чуть красивее американок, — да простится мне эта антипатриотическая похвала. Они очень общительны, отвечают улыбкой на улыбку незнакомца, кланяются в ответ на его поклон и не прочь поболтать, когда с ними заговаривают. Церемонных представлений не требуется. Завязать беседу у дверей с хорошенькой девушкой, которую видишь в первый раз, очень легко и весьма приятно. Я знаю это по собственному опыту. Я говорю только по-английски, а моя собеседница изъяснялась то ли по-гречески, то ли по-армянски, то ли еще на каком-то столь же варварском наречии, но это нам нисколько не мешало. Я убедился, что, если в подобных случаях люди не понимают друг друга, беда невелика. В русском городе Ялте я целый час танцевал удивительный танец, о котором никогда прежде не слыхал, с прелестной девушкой; мы болтали без умолку, от души хохотали, и при этом ни один из нас не понимал, куда гнет другой. Но какое это было удовольствие! Танцевало двадцать человек, и танец был очень быстрый и сложный. Он и без меня был далеко не прост, а уж при моем участии и говорить нечего. Время от времени, ко всеобщему изумлению, я откалывал самые неожиданные коленца. Я до сих пор вспоминаю эту девушку. Я писал к ней, но все еще не отправил свое послание, ибо у нее, как это положено в России, замысловатое имя в добрый десяток слогов и на него не хватит букв в нашем алфавите. Наяву я не отваживаюсь произнести его, но во сне пускаюсь во все тяжкие и просыпаюсь по утрам со сведенной челюстью. Я чахну. Я уже перестал вовремя обедать и ужинать. Ее сладостное имя все еще преследует меня по ночам. Об него все зубы можно обломать. Слетая с моих уст, оно всякий раз уносит с собой какой-нибудь обломок. И тут еще сводит судорогой челюсть и последние слог-другой так и остаются во рту, но на вкус они недурны.
Когда мы шли Дарданеллами, мы следили в подзорные трубы за караванами верблюдов, но вблизи не видели ни одного, пока не добрались до Смирны. Здешние верблюды куда крупнее, чем их хилые собратья, которых нам показывают в зверинце. Тяжело навьюченные, они шагают по тесным улицам гуськом, по десятку в каждом караване, а впереди на ослике, крохотный и незаметный по сравнению с этими великанами, едет негр в живописном турецком костюме или араб. Караван верблюдов, груженных пряностями Аравии и редкостными персидскими шелками, шествующий по узким базарным рядам среди носильщиков с громоздкой кладью, менял, продавцов фонариков, торговцев стеклянной посудой, дородных турков, которые, скрестив ноги, покуривают знаменитый наргиле, среди неторопливого потока людей в причудливых азиатских одеждах, — это и есть настоящий Восток.
К этой картине нечего прибавить. Она мгновенно переносит вас в давно забытое отрочество, и вот вы вновь погружаетесь в чудеса «Тысячи и одной ночи»; вы снова среди принцев, как повелитель калиф Гарун-аль-Рашид, и вам покорны грозные великаны и джинны, которые появляются из дыма при блеске молний и раскатах грома и исчезают в ревущем урагане!
Глава XII. Достопримечательности Смирны. — Мученик Поликарп. — «Семь церквей». — Остатки шести Смирн. — Загадочные залежи устриц. — Здешние Миллеры. — Железная дорога в непривычной обстановке.
Нам сказали, что достопримечательности Смирны — это прежде всего развалины древней крепости, чьи полуразрушенные гигантские башни хмуро глядят с высокой горы на город, лежащий у самого ее подножия (это и есть гора Пагус, о которой говорится в священном писании); затем — место, где в первом веке христианской эры стояла одна из семи апокалипсических церквей; и наконец — могила великомученика Поликарпа, который около восемнадцати столетий тому назад здесь, в Смирне, пострадал за веру.
Мы наняли осликов и пустились в путь. Посмотрев могилу Поликарпа, мы поспешили дальше.
Теперь на очереди были «семь церквей», как здесь выражаются для краткости. Мы добрались туда вконец измученные, проделав полторы мили под палящим солнцем, и осмотрели греческую церквушку, которая, говорят, построена на месте древней церкви; за скромное вознаграждение священнослужитель оделил нас маленькими восковыми свечками в память о пребывании здесь; я спрятал свою свечку в шляпу, но солнце растопило ее, воск потек мне за воротник, и остался мне на память один фитиль, да и тот жалкий, съежившийся.
Кое-кто из нас как умел старался доказать, что «церковь», о которой сказано в Библии, — это христианская община, а не здание, что те христиане были очень бедны, — столь бедны и столь гонимы (пример — мученичество Поликарпа), что, во-первых, им не на что было построить церковь, а во-вторых, они никогда не осмелились бы строить ее у всех на виду; и наконец, если уж у них была бы возможность построить ее, всякому здравомыслящему человеку ясно, что они возвели бы ее поближе к городу. Но старейшины «Квакер-Сити» не приняли во внимание наши доводы, за что возмездие и не миновало их. Немного погодя они убедились, что были введены в заблуждение и сбились с пути, — как оказалось, место, на котором, по общему мнению, стояла настоящая церковь, находится в самом городе.
Проезжая по улицам, мы видели остатки всех шести Смирн, которые некогда существовали здесь и либо погибли в пламени пожаров, либо были разрушены до основания землетрясением. Горы и скалы там и тут в трещинах и расселинах, раскопки обнажают остатки каменных зданий, которые веками были погребены под землей; жалкие домишки и ограды сегодняшней Смирны, мимо которых мы проезжали, испещрены белыми пятнами мрамора, — на их постройку пошли обломки колонн, капителей, осколки изваяний, украшавших пышные дворцы, которыми некогда славилась Смирна.
Подъем в гору к крепости очень крут, и мы двигались медленно. Но зато здесь было на что посмотреть. В одном месте, в пятистах футах над уровнем моря, дорога проходит вдоль отвесной стены в десять — пятнадцать футов высотой, и на обнаженном срезе видны три жилы устричных раковин, — точь-в-точь как кварцевые жилы на горных дорогах Невады или Монтаны. Жилы эти, дюймов по восемнадцать толщиной, расположены в двух-трех футах друг от друга и тянутся наискось сверху вниз футов на тридцать, до того места, где стена смыкается с дорогой. Если начать разрабатывать жилу, одному Богу известно, куда она заведет. Раковины большие, красивые, — словом, самые обыкновенные устричные раковины. Все они лежат плотным слоем, и ни одна не выступает за пределы жилы. Все три жилы очень четко очерчены и не имеют никаких ответвлений. Мне тут же захотелось написать обычную в таких случаях —
Заявку
Мы, нижеподписавшиеся, заявляем свое право на пять участков (и один за открытие), в двести футов каждый, по устричной жиле, или залежи, со всеми ее сбросами, пластами, ответвлениями и изгибами, а также на пятьдесят футов по обе стороны от вышеозначенного месторождения — на предмет разведки, разработок и пр. и пр., согласно приисковым законам, действующим в Смирне.
С виду это были самые настоящие залежи, и мне стоило большого труда не застолбить их. Меж устричных раковин здесь и там попадались черепки древней глиняной посуды. Но как могли попасть сюда все эти устрицы? Понять не могу. Обломки глиняной посуды и устричные раковины наводят на мысль о ресторане, но, с другой стороны, в наше время никто не стал бы открывать подобное заведение так далеко от жилья, да еще на высокой горе. В этой унылой каменной пустыне ресторан просто не окупил бы себя. А кроме того, мы не увидали среди раковин ни одной пробки от шампанского. Если тут когда-нибудь и был ресторан, то разве что в дни расцвета Смирны, когда повсюду на этих горах блистали богатые дворцы. В таком случае я могу поверить, что здесь был один ресторан. Но три? Может быть, у них тут стояли рестораны в три разные эпохи? Ведь между устричными жилами залегает плотный слой земли в два-три фута толщиной. Нет, видно ресторанная гипотеза отпадает.
Быть может, когда-нибудь эта гора была морским дном и во время землетрясения она поднялась вместе со своими устричными залежами, — но откуда же тогда взялись черепки? Более того, откуда же тогда не одна, а три устричных залежи, отделенные друг от друга толстыми пластами доброй, честной земли?
Итак, эта теория не годится. Тогда, может, это и есть та самая гора Арарат, на которой покоился Ноев ковчег? Ной ел устрицы, а раковины бросал за борт. Но нет, и это не годится. Ведь устричных-то слоев три, а между ними земля; и кроме того, семейство Ноя состояло всего лишь из восьми человек, и за те два-три месяца, что они провели на вершине горы, им нипочем было не съесть столько устриц. Уж не твари ли?.. Впрочем, смешно и думать, чтобы Ной свалял такого дурака и стал подавать им на ужин устрицы.
Это обидно, это просто унизительно, но мне ничего не остается, кроме весьма шаткой теории: что устрицы сами, по доброй воле, взобрались сюда. Но зачем? Что им здесь понадобилось? Чего ради устрица вдруг полезет на гору? Ведь для нее это конечно же весьма тяжелое и утомительное путешествие. Всего естественней было бы предположить, что устрицы влезли сюда, чтобы полюбоваться видом. Но когда поразмыслишь над характером устрицы, становится ясно, что ее вряд ли интересуют красивые виды, у нее нет вкуса к подобным вещам, ей нет дела до красот природы. Устрица склонна к уединению, не отличается живым, бойким нравом, меланхолична и отнюдь не предприимчива. Но главное, ее нимало не занимают пейзажи, она презирает их. Итак, к чему же я пришел? К тому, с чего начал, а именно: здесь, на горе, в пятистах футах над уровнем моря, существуют самые настоящие устричные залежи, и никому не известно, как они сюда попали. Я перерыл все путеводители, и суть того, что там сказано, такова: «Они там есть; но как они туда попали — тайна».
Двадцать пять лет тому назад множество американцев облачились в белые одежды, в слезах распрощались с друзьями и приготовились при первом же звуке трубы архангела вознестись на небо. Но архангел не затрубил. Предсказанное Миллером пришествие[153] не состоялось. И его последователи были возмущены до глубины души. Я бы никогда не подумал, что в Малой Азии есть свои Миллеры, но мне рассказали, что однажды, года три тому назад, в Смирне уже собрались встретить конец света. Задолго до этого дня было много шуму и приготовлений, и в назначенный день всеобщее волнение достигло предела. Рано поутру толпы народа поднялись на крепостной вал, чтобы избежать всеобщей гибели, а многие одержимые позакрывали свои лавки и удалились от всех земных дел. Но самое странное то, что часа в три пополудни, когда мой собеседник обедал с приятелями в отеле, разразился ужасающий ливень, загремел гром, засверкала молния, и гроза неистовствовала свыше двух часов кряду. Ничего подобного в такое время года в Смирне никогда не бывало, и это напугало даже самых отъявленных скептиков. По улицам неслись бурные потоки. Вода залила в отеле пол. Пришлось прервать обед. А когда ураган стих и все стояли насквозь промокшие, мрачные, по колено в воде, адвентисты сошли с горы сухие, как воскресная проповедь! Они глядели сверху, как бушевал ураган, искренне считая, что предсказанное ими светопреставление разыгрывается как по нотам.
Здесь, в Азии, в сонном царстве Востока, в сказочной стране «Тысячи и одной ночи», странно думать о железной дороге. И однако здесь уже есть одна железная дорога, и строится другая. Действующая дорога прекрасно построена и прекрасно управляется английской компанией, но не приносит особенного дохода. В первый год она перевезла немало пассажиров, но в списке перевезенных грузов числится лишь восемьсот фунтов фиг!
Дорога подходит почти к самым воротам Эфеса — города, который остался великим в веках, города, который знаком всем, кто читал Библию, и который был уже древен, как мир, в те дни, когда ученики Христа проповедовали на его улицах. Он был основан в далекие времена, известные нам лишь по преданиям, и стал родиной богов, воспетых в греческих мифах. Нелепой кажется сама мысль о паровозе, который врывается в этот город, населенный призраками далекого романтического прошлого, тревожа их многовековой сон.
Завтра мы отправимся туда и посетим знаменитые руины.
Глава ХIII. Поездка в древний Эфес. — Древний Айсалук. — Мерзкий осел. — Фантастическая процессия. — Былое великолепие. — Из прошлого. — Легенда о семи спящих.
День выдался беспокойный. Начальник станции предоставил в наше распоряжение целый поезд, — мало того, он оказался так любезен, что решил сопровождать нас до Эфеса, чтобы избавить от всех хлопот. Мы погрузили в товарные вагоны шестьдесят крошечных осликов, так как нам предстояло побывать во многих местах.
Дорогой мы встречали людей в самых причудливых одеждах, какие только можно себе вообразить. К счастью, их все равно не опишешь никакими словами, не то у меня, пожалуй, хватило бы глупости попробовать.
В древнем Айсалуке, лежащем среди безрадостной пустыни, мы наткнулись на полуразрушенный акведук и другие остатки грандиозных зданий, которые яснее слов говорили, что мы приближаемся к тому, что некогда было столицей. Мы сошли с поезда и вместе с нашими гостями — приятными молодыми людьми, офицерами американского военного корабля — уселись верхом на осликов.
Седла на осликах были очень высокие, чтобы ноги седока не волочились по земле, но среди наших паломников были такие долговязые, что и эта предосторожность не помогла. Поводьев не было, их заменяла самая обыкновенная веревка, привязанная к удилам, однако и она служила разве что для украшения, потому что осел не обращал на нее ни малейшего внимания. Раз уж его понесло вправо, вы можете сколько угодно тянуть влево, если вам это доставляет удовольствие, но он все равно пойдет вправо. Есть только одна возможность настоять на своем: слезть с осла, поднять его за задние ноги и поворачивать до тех пор, пока вы не нацелите его носом в нужном направлении; или взять его под мышку и оттащить в такое место, где он уж при всем желании не сможет свернуть с дороги, разве что полезет по отвесному склону. Было жарко, как в пекле, шарфы, вуали и зонтики служили плохой защитой от солнца, зато благодаря им у нашей кавалькады вид был самый фантастический — ибо, да будет вам известно, все наши дамы ехали по-мужски, потому что на этих нескладных седлах невозможно удержаться боком; мужчины обливались пóтом и злились, ноги их ударялись о камни; ослы кидались во все стороны, только не туда, куда надо, и были за это биты дубинками; и то и дело какой-нибудь зонтик валился на землю, извещая всех о том, что еще один путник повержен во прах. Вряд ли в этих пустынных местах можно было увидеть другую такую нелепую кавалькаду. По-моему, из всех ослов на свете эти самые несговорчивые и отличаются самыми дурными наклонностями. Время от времени мы так выбивались из сил, воюя с ослами, что оставляли их в покое, и они тут же переходили на неторопливый шаг. От их медлительного аллюра, от усталости, от жары седока клонило ко сну, но стоило ему задремать, и осел тотчас ложился. Моему ослу уже не видать отчего дома, он слишком часто укладывался. Не сносить ему головы!
Мы постояли в гигантском театре древнего Эфеса, вернее — в амфитеатре с каменными скамьями, позируя фотографу. По-моему, выглядели мы здесь столь же естественно, как в любом другом месте, и не очень украсили эту мрачную пустыню. Наши зеленые зонты и наши ослики придают некоторое благородство величественным руинам, но большего мы сделать не в силах. Впрочем, намерения у нас самые лучшие.
Постараюсь коротко рассказать о том, как выглядит Эфес.
На склоне высокой крутой горы, обращенном к морю, громоздятся глыбы серого мрамора; предание гласит, что это остатки темницы, в которую восемнадцать столетий назад был заключен апостол Павел. С этих развалин открывается прекрасный вид на безлюдную равнину, где некогда стоял Эфес, самый пышный город древности. Прекрасный храм Дианы Эфесской, творение несравненных зодчих и ваятелей, по справедливости почитался не последним из семи чудес света.
За нами — море, а впереди раскинулась плоская зеленая низина (вернее, болото), которая уходит вдаль и теряется среди гор; по правую руку, высоко на горе, стоит древняя крепость Айсалук; неподалеку от нее, на равнине, — разрушенная мечеть султана Селима (она построена на могиле святого Иоанна и прежде была христианской церковью); дальше, прямо перед нами, Пионский холм, вокруг которого теснятся еще не рассыпавшиеся в прах руины древнего Эфеса; узкая долина отделяет их от голой, скалистой горы Коресс. Вид хорош, но безрадостен, — ведь на этой широкой равнине не может жить человек, и здесь нет никаких признаков жилья. Если бы не обвалившиеся своды, исполинские контрфорсы и разрушенные стены, которые поднимаются у подножия Пионского холма, невозможно было бы поверить, что некогда здесь стоял город, чья слава разнеслась по свету прежде, чем имя его вошло в историю христианства. Не верится, что многое из того, что сегодня так же знакомо и привычно всем людям во всем мире, как самые простые, обыденные слова, рождено историей этого безмолвного, пустынного и скорбного края с его туманными преданиями. Мы говорим об Аполлоне и Диане — они родились здесь; о превращении нимфы Сиринги в тростник[154] — это случилось здесь; о великом Пане — он жил в пещерах Коресса; об амазонках[155] — тут был их любимый приют; о Вакхе и Геркулесе — оба сражались здесь с этими воинственными женами; о Циклопах[156] — это они сложили из гигантских мраморных глыб вон те, ныне обвалившиеся, стены; о Гомере — Эфес один из многих городов, где он родился[157]; о Тимоне Афинском[158], об Алкивиаде, Лизандре, Агесилае — они бывали здесь, так же как и Александр Великий, Ганнибал, Антиох, Сципион, Лукулл и Сулла, Брут, Кассий, Помпей, Цицерон и Август; Антоний был здесь судьей, и однажды, не дослушав словопрений, он вскочил с места и устремился вдогонку за мелькнувшей в дверях Клеопатрой; отсюда они вместе отправлялись в увеселительные прогулки на галерах с серебряными веслами и надушенными парусами, и прекрасные девы служили им, а певцы и музыканты забавляли их; и кажется, совсем недавно (ведь когда возникло христианство, он был уже древен) в этом городе апостолы Павел и Иоанн проповедовали новую веру; и здесь, как полагают, Павел был брошен на съедение диким зверям, ибо в «Первом послании коринфянам» (гл. XV, стих 32) он говорит:
По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе..
И тогда еще живы были многие, лицезревшие Христа: здесь умерла Мария Магдалина, здесь дева Мария провела остаток своих дней, и Иоанн не покидал ее (правда, Рим рассудил за благо указать ее могилу в другом месте); всего каких-нибудь шесть-семь веков назад — все равно что вчера — эти улицы наводнили полчища одетых в кольчуги крестоносцев; и уж если перейти к пустякам, мы вдруг по-новому восприняли хорошо знакомые слова — «извилистый ручей», когда оказалось, что они появились в нашем словаре благодаря вон той вьющейся по долине речке Извилине. Глядя на эти замшелые руины, на это запустение, овеянное дыханием истории, я невольно почувствовал себя старым, как этот безотрадный край. Можно читать Священное Писание и верить каждому слову, но не всякий может прийти и стать здесь, в разрушенном амфитеатре, и мысленно вновь населить его давно исчезнувшими толпами, которые окружили последователей апостола Павла и кричали в один голос: «Да славится Диана Эфесская!»[159] А сейчас страшно даже подумать о том, чтобы закричать в таком безлюдье.
Удивительный это был город — Эфес. В какую сторону ни пойдешь, повсюду на широкой равнине, среди пыли и сорных трав, валяются обломки чудеснейших мраморных статуй; покрытые тончайшими каннелюрами колонны из порфира и ценных сортов мрамора распростерлись на земле или поднимаются из нее; на каждом шагу капители с тонкой резьбой, массивные пьедесталы и греческие надписи на полированном камне. Целый мир драгоценных реликвий, россыпи искалеченных, погубленных сокровищ. Но что все это по сравнению с теми чудесами, что погребены под землей? В Константинополе, в Пизе, в городах Испании мечети и соборы украшены прекраснейшими колоннами, вывезенными из эфесских храмов и дворцов, и, однако, стоит лишь поскрести здесь землю, чтобы обнаружить другие, не менее прекрасные. Пока миру не откроется вновь этот величественный город, нам не узнать, что такое истинное великолепие.
Здесь, в старом эфесском амфитеатре, который прославлен бунтом апостола Павла, мы увидели прекраснейшую статую, и она произвела на нас неизгладимое впечатление (а ведь мы не знатоки искусства и не так-то часто приходим от него в восторг). Это всего лишь безглавый воин в кольчуге, и на его нагруднике изображена голова Медузы, но мы убеждены, что никогда еще камень не был так величав, никогда не воплощалось в нем столько благородства.
А какие удивительные зодчие были эти древние греки! Массивные арки, кое-где сохранившиеся, покоятся на столбах толщиной в пятнадцать футов, высеченных из цельных глыб мрамора, некоторые из них величиною с добрый дорожный сундук, а другие — не меньше дивана в меблированных комнатах. Это не просто каменная обшивка, набитая трухой, но столбы из сплошного камня. Так же сложены и громадные арки, которые, быть может, были когда-то городскими ворогами. Целых три тысячелетия обрушивались на них ураганы, осады, землетрясения, но они устояли и стоят по сей день. Когда рядом с ними начинают копать землю, глазу открывается массивная каменная кладка, которая так великолепно сохранилась, словно исполины-циклопы только сегодня закончили ее. Одна английская компания намерена взяться за раскопки Эфеса[160] — и тогда...
А теперь мне вспоминается Легенда о семи спящих.
Вон там, в склоне горы Пион, видна пещера семи спящих. Давным-давно, полторы тысячи лет тому назад, жили-были в Эфесе по соседству друг от друга семеро юношей, принадлежавших к презираемой секте христиан. Случилось так, что добрый король Максимилиан (я рассказываю эту сказку для примерных мальчиков и девочек)... Так вот, случилось так, что доброму королю Максимилиану вздумалось преследовать христиан, и скоро им совсем не стало житья. И сказали семеро юношей друг другу: «Давайте отправимся странствовать по свету». И они собрались и отправились в путь. Второпях они не простились ни с отцом, ни с матерью, ни с друзьями-товарищами. Прихватили они отцовские деньги да одежу друзей-товарищей, чтобы вспоминать о них на чужбине; со двора соседа Малкуса свели собаку по кличке Кетмер, потому что пес неосторожно всунул голову в ошейник, который как раз оказался у одного из молодых людей, а снимать ошейник им было недосуг; еще они захватили с собою несколько кур, которым, видно, скучно было в соседских курятниках, да из лавки бакалейщика несколько бутылок заморского напитка, что стояли поближе к окну, — после чего отбыли из Эфеса. Шли они, шли — и увидели чудесную пещеру в горе Лионской, вошли в нее, попировали и поспешили дальше. А про бутылки с заморскими напитками забыли, так они и остались в пещере. Где только путники не побывали, какие только чудеса с ними не приключались! Были они юноши добродетельные и никогда не упускали случая заработать на пропитание. Был у них такой девиз: «Мешканьем беды не избудешь». Потому стоило им набрести на одинокого странника, как они говорили: «Глядите, вон человек с богатой казной, потрясем-ка его». И трясли. Так прошло пять лет, и наконец им прискучили странствия и приключения и захотелось вновь поглядеть на отчий дом, услышать милые с детства голоса, увидеть милые с детства лица. И посему они обшарили карманы у всех, кто оказался у них под рукой, и пустились в обратный путь. Добрый король Максимилиан в ту пору уже был обращен в новую веру, и христиане возликовали, ибо отныне их уже не преследовали. В один прекрасный день, на закате, путники подошли к пещере в горе Пионской и сказали друг другу: «Переночуем здесь, братия, а когда настанет день, пойдем пировать и веселиться с друзьями». И каждый из семерых возвысил свой голос и молвил: «Подходяще!» Вошли они в пещеру и видят — бутылки заморского напитка лежат на том самом месте, где они их оставили; и рассудили они, что с годами вино не становится хуже. Это их суждение было разумное и справедливое. Итак, каждый из странников выпил по шести бутылок, после чего их одолела великая усталость, и они легли и уснули крепким сном.
Когда они пробудились, один из них, Иоанниус, по прозванию Смитус, сказал: «Мы наги». И так оно и было. Вся их одежда исчезла, а монеты, которые они позаимствовали у прохожего, когда приближались к городу, валялись на земле — потемневшие, стертые, заржавленные. Исчез и пес Кетмер, остались только медные скрепы его ошейника. Думали они, думали, что же такое случилось, да так ни до чего и не додумались. Однако подобрали деньги, прикрыли наготу свою листьями и поднялись на вершину горы. Глядят — и глазам своим pre верят. Прекрасного храма Дианы как не бывало, здесь и там высятся огромные здания, которых они не видали прежде; по улицам ходят люди в странных одеждах — города не узнать.
И сказал Иоанниус: «Да Эфес ли это? Однако вот он, большой стадион, вот громадный театр, в котором, помню, сходилось семьдесят тысяч человек, а вон Агора и источник, в который Иоанн Креститель погружал новообращенных; а там темница, где томился наш добрый апостол Павел, — все мы ходили туда, чтоб коснуться древних цепей, которыми он был окован, и исцелить беспокойный дух свой. Я вижу могилу апостола Луки, а там дальше церковь, где покоится прах святого Иоанна и куда дважды в год приходят эфесские христиане, чтобы подобрать горсть праха с его могилы, ибо она излечивает телесные недуги и очищает от грехов души. Но глядите, как далеко выдались в море пристани и сколько кораблей теснится у берега. Глядите, как широко раскинулся город, — он захватил долину за Пионом и подступил к самым стенам Айсалука. Взгляните, повсюду на горах мраморные столпы, повсюду белеют дворцы. Сколь умножилось могущество Эфеса!»
И, дивясь тому, что увидели их глаза, они спустились в город, купили разного платья и оделись. И когда они уже собрались уходить, купец попробовал на зуб монеты, которые они ему дали, и стал вертеть их в руках и с любопытством разглядывать, потом кинул на прилавок, прислушался, так ли они звенят, и наконец сказал: «Это фальшивые деньги». Но странники ответили ему: «Отыди, сатана!» — и пошли своей дорогой. Вскоре они завидели свои дома и узнали их, хотя дома и показались им обветшавшими и жалкими. И возрадовались они и были счастливы. И каждый подбежал к отчему порогу и постучался в дверь, и чужие люди отворили им и встретили их вопрошающим взглядом. И великое волнение охватило их, и сердца их забились, и кровь прилила к их лицам и вновь отхлынула, и каждый спросил: «Где отец мой? Где мать моя? Где Дионис, Серапион, Перикл и Деций?» И чужие люди, что отворили им дверь, отвечали: «Мы их не знаем». — «Как же вы не знаете их? — спросили семеро. — Давно ли вы живете здесь, и куда делись те, что жили здесь до вас?» И отвечали чужие люди: «Вы смеетесь над нами, молодые люди. И мы, и наши отцы, и деды — шесть поколений наших сменилось под этим кровом. Имена, что вы назвали, почти уже стерлись на могильных плитах, а те, что звались этими именами, давно отжили свой короткий век, отпели и отсмеялись, претерпели все горе и все тяготы, что были отпущены на их долю, и обрели покой. Сто восемьдесят раз весна сменялась летом и падали осенние листья с тех пор, как розы увяли на их ланитах и они уснули вечным сном».
Тогда семеро путников отворотились от отчего дома, и чужие люди захлопнули дверь. Велико было удивление странников, и они заглядывали в лицо каждому встречному, надеясь увидеть хоть одно, которое было бы знакомо им; но все здесь были чужие им и проходили мимо, и никто не молвил им дружеского слова привета. И предались они скорби и унынию. Наконец они заговорили с одним горожанином и спросили ею: «Кто царствует в Эфесе?» И горожанин отвечал: «Откуда явились вы, если не знаете, что великий Лаэрт правит в Эфесе?» В безмерном смущении поглядели они друг на друга и вновь спросили: «А где же добрый король Максимилиан?»
Горожанин отодвинулся подальше, словно бы испугавшись, и сказал: «Воистину эти люди безумны и грезят наяву, не то как же им не знать, что король, о коем они спрашивают, умер двести с лишком лет назад».
Тогда пелена спала с глаз семерых, и один из них сказал: «Горе нам, зачем испили мы того заморского напитка! Он отнял у нас силы, и двести лет мы проспали сном без сновидений. Дома наши опустели, друзья сошли в могилу. Игра окончена — нам остается только умереть». И в тот же день они пошли, и легли, и умерли. В тот самый день, когда семеро появились в Эфесе, они и исчезли, ибо семеро, что восстали от сна, снова погрузились в сон и отошли в иной мир. Вот имена их, сохранившиеся на могильных плитах и по сей день: Иоанниус Смитус, Козырь, Туз, Бита, Пас, Валет, Игра. И рядом со спящими лежат бутылки, в которых некогда был заморский напиток, а над ними выведены старинными письменами такие слова (быть может, это имена древних языческих богов): Ром-Пунш, Бренди-Джин и Глинтвейн.
Такова легенда о семи спящих (с небольшими изменениями), и я знаю, что все в ней истина: ведь я сам видел пещеру.
Древние так непоколебимо верили этой легенде, что еще восемь-девять веков назад даже ученые путешественники в суеверном страхе останавливались перед знаменитой пещерой.
Двое из них сообщают, что они отважились войти туда, но тотчас же выбежали обратно, не решаясь задерживаться там, чтобы не уснуть и не пережить своих правнуков на столетие-другое. Даже и в наши дни невежественные обыватели тех мест стараются не засыпать в этой пещере.
Глава XIV. Приближаемся к Святой Земле! — В лихорадке сборов. — Дальний поход одобрен. — В Сирии. — Несколько слов о Бейруте. — Снаряжение экспедиции. — Жалкие клячи. — «Стиль» паломничества.
Последний раз я брался за свой путевой дневник в Эфесе. Теперь мы в Сирии и раскинули лагерь в Ливанских горах. Позади осталось немало и дней и миль. Из Эфеса мы не увезли ни единой реликвии! Как старательно собирали мы обломки мраморных статуй, отбивали по кусочку от внутреннего орнамента мечетей, с каким трудом, вконец измучившись, довезли их на мулах за пять миль к железнодорожной станции! И после всех хлопот правительственный чиновник заставил нас расстаться с нашими сокровищами! Он получил приказ из Константинополя присматривать за нами и следить, чтобы мы ничего не вывезли отсюда. Это был мудрый, справедливый и вполне заслуженный урок, но он возбудил всеобщее негодование. Всякий раз, как мне удается устоять перед искушением залезть в чужой карман, я ужасно горжусь собой. На сей раз я был невыразимо горд. Среди бури упреков, которыми осыпали оттоманское правительство столь оскорбленные им достопочтенные леди и джентльмены, путешествующие ради собственного удовольствия, я сохранял невозмутимое спокойствие. Я сказал: «Нас, у которых совесть чиста, это не касается». Но для всех это был удар, и удар жестокий; главный пострадавший узнал, что правительственный приказ был вложен в конверт с печатью британского посольства в Константинополе и, очевидно, за ним стоял представитель королевы английской. Это было худо, очень худо. Если бы он исходил только от турецких властей, это просто-напросто лишний раз свидетельствовало бы о ненависти турок к христианам, ненависти, которую они в своем невежестве не умеют выразить в более деликатной форме; но раз он исходит от исповедующей христианскую веру, просвещенной и политичной британской миссии, это означает, что нас отнесли к той породе путешественников, за которыми нужен глаз да глаз. Так это все и восприняли и страшно вознегодовали. Но на самом деле те же меры предосторожности несомненно были бы приняты против любых путешественников, потому что английская компания, которая приобрела право производить раскопки в Эфесе и заплатила за это немалые деньги, нуждалась в защите и покровительстве, и вполне того заслуживала. Нельзя же позволять путешественникам злоупотреблять гостеприимством, да еще когда общеизвестно, что они ведут себя бессовестно.
Мы отплыли из Смирны, обуреваемые нетерпением, ибо до главной цели нашей экспедиции, до гвоздя программы, было уже рукой подать, — мы приближались к Святой Земле! В трюме, где долгие недели — да что там — месяцы! — покоились наши чемоданы, теперь было все разрыто и перерыто; все суетились и бегали взад-вперед, лихорадочно упаковывали и распаковывали вещи; в каютах повсюду валялись брюки, юбки, самый неописуемый и непонятный хлам; все увязывали узлы, доставали зонтики, зеленые очки и густые вуали; придирчиво осматривали новенькие седла и уздечки, которых не знавала еще ни одна лошадь; старательно чистили и заряжали револьверы, проверяли, хорошо ли наточены охотничьи ножи; подшивали прочной оленьей кожей штаны для верховой езды; изучали старинные карты, читали Библию и путешествия по Палестине; намечали маршруты; горячо спорили о том, как получше разделиться на небольшие группы, состоящие из родственных душ, чтобы долгое и утомительное путешествие обошлось без ссор; с раннего утра до поздней ночи собирались по кагатам, произносили пылкие речи, засыпали друг друга мудрыми советами, волновались, спорили до хрипоты, вламывались в амбицию из-за каждого пустяка. Нет, такого еще никогда не бывало на пашем корабле.
Но теперь все это позади. Мы разбились на группы по шесть — восемь человек, и теперь уже разъехались кто куда. Но только одна наша партия отважилась пуститься по длинному маршруту — иначе говоря, по Сирии, — через Баальбек и Дамаск и далее через всю Палестину. Это утомительное и даже рискованное путешествие, да еще в такое жаркое время года, оно под силу лишь крепким, выносливым людям, привыкшим к трудной, суровой жизни под открытым небом.
Другие группы избрали более короткие маршруты.
Последние два месяца одна сторона предстоящего путешествия но Святой Земле не переставала заботить нас: как мы будем передвигаться. Мы прекрасно знали, что в Палестине не очень-то налажено пассажирское сообщение, и каждый, кто был хоть сколько-нибудь осведомлен, давал нам понять, что едва ли хотя бы половине из нас удастся обзавестись драгоманами и лошадьми. Еще в Константинополе все кинулись телеграфировать американским консулам в Александрии и Бейруте, предупреждая их, что нам необходимы драгоманы и средства передвижения. С отчаяния мы соглашались передвигаться на лошадях, осликах, жирафах, кенгуру — на чем угодно. Из Смирны полетели новые телеграммы. А кроме того, мы по телеграфу заказали множество мест в дилижансе, отправлявшемся в Дамаск, и целый табун лошадей, которые должны были доставить нас к руинам Баальбека.
Как и следовало ожидать, по Сирии и Египту распространился слух, что в Святую Землю собираются все жители американской провинции в полном составе (турки полагают, что Америка — это какое-то захолустье где-то на краю света), — поэтому, когда мы вчера прибыли в Бейрут, он так и кишел драгоманами со всем их снаряжением. Мы намеревались ехать дилижансом до Дамаска, заглянуть по дороге в Баальбек, затем вернуться на корабль, дойти до горы Кармель[161], а потом опять гулять на свободе. Но когда наша маленькая компания из восьми человек узнала, что есть полная возможность отправиться по длинному маршруту, мы решили не упускать удобного случая. До сих пор мы ни в одном городе не были обузой для нашего консула, но бейрутскому консулу мы доставили немало хлопот. Я упоминаю об этом потому, что не могу не отдать должное его терпению, изобретательности и искусству всех примирить и все уладить. Я упоминаю об этом также и потому, что, мне кажется, некоторые из пассажиров еще не оценили по достоинству его помощь.
Итак, мы доверили троим из нашей восьмерки позаботиться обо всем необходимом. Остальные могли вволю любоваться прекрасным городом Бейрутом — светлыми домами, недавно выстроенными среди зеленого кустарника, которым поросло нагорье, отлого спускающееся к морю; глядеть на Ливанские горы, обступающие его, или купаться в прозрачно-голубом Средиземном море, на волнах которого мягко покачивался наш корабль (мы еще не знали, что здесь водятся акулы). Нам предстояло также побродить по городу и посмотреть на здешние наряды, — они живописны и причудливы, но не так разнообразны, как в Константинополе и Смирне. Женщины Бейрута наводят ужас! Если в Константинополе и Смирне представительницы прекрасного пола носят тонкие покрывала, сквозь которые можно разглядеть их лица (и нередко выставляют напоказ ножку), то здесь они наглухо закрывают лица темной или черной материей, так что их можно принять за мумии, и выставляют на всеобщее обозрение грудь. Некий молодой человек (если не ошибаюсь, грек) вызвался показать нам город, — он сказал, что это доставит ему огромное удовольствие, так как он изучает английский язык и рад случаю попрактиковаться. Однако, когда прогулка подошла к концу, он потребовал вознаграждения: он сказал, что джентльмены, верно, дадут ему какую-нибудь малость, хотя бы несколько пиастров (пиастр соответствует нашей пятицентовой монете). Мы дали. Консул был удивлен, услышав об этом: оказалось, что он хорошо знаком с семьей этого молодца, — это старинное, в высшей степени почтенное семейство и обладает состоянием в добрых сто пятьдесят тысяч долларов! На месте этого молодого человека многие постыдились бы выступить в подобной роли, да еще так навязываться.
В должный срок наш комитет сообщил, что к поездке все готово, — мы выступаем сегодня; с лошадьми, вьючными мулами и шатрами двигаемся к Баальбеку, Дамаску, Тивериадскому озеру, оттуда сворачиваем на юг, посещаем то место, где Иаков видел сон[162], и другие наиболее известные библейские места; затем — Иерусалим, откуда, быть может, направимся к Мертвому морю, а потом прямой дорогой на океан, и по прошествии месяца прибудем в Яффу, где нас будет ждать наш корабль. Условия такие: по пять долларов золотом в день с головы, а все прочее — забота драгоманов. Они обещают, что мы будем жить не хуже, чем в отеле. О подобных вещах я читал прежде в книгах и уж конечно не был так глуп, чтобы поверить хоть одному слову. Я, разумеется, ничего не сказал, но захватил с собой одеяло и плед, чтоб было чем укрываться, курительные трубки и табак, две-три шерстяные рубашки, портфель, путеводитель и Библию. Взял я и полотенце и кусок мыла, чтобы внушить арабам почтение, — пусть думают, что я переодетый король.
В три часа пополудни мы должны были выбирать лошадей. Авраам, один из наших драгоманов, торжественно провел их перед нами. Со всей ответственностью заявляю здесь, что более жалких одров мне еще встречать не приходилось, и вся сбруя совершенно гармонировала с их внешностью. Один конь кривой; у другого обрубленный хвост, куцый, как у кролика, — и, кажется, он этим очень гордится; у третьего костлявый хребет выступает, точно разрушенный акведук из тех, что мы осматривали в окрестностях Рима, и шея тонкая, как бушприт; все они прихрамывают, спины у них стерты, кровоточат, и повсюду блестят старые проплешины, как медные гвозди на кожаном сундуке; их аллюр бесподобен и никак не наскучит однообразием — на ходу они точно флотилия в бурном море. Зрелище устрашающее.
Блюхер покачал головой:
— Этому дракону даром не пройдет, что он увел из больницы таких калек, если у него нет особого разрешения.
Я промолчал. Все шло в точности так, как было обещано в путеводителе, а разве мы путешествуем не по путеводителю? Я выбрал лошадь, которая шарахнулась от чего-то в испуге, потому что лошадь, у которой хватает резвости, чтобы шарахнуться, еще не совсем безнадежна.
В шесть часов мы сделали привал на овеваемой ветром с моря красивой горной вершине; отсюда открывался вид на живописную долину, где некогда обитали иные из тех предприимчивых древних финикийцев, о которых мы столько читали; вокруг нас — бывшие владения Хирама, царя Тирского, который доставлял кедры с этих Ливанских гор для храма, воздвигаемого царем Соломоном.
Вскоре после шести часов прибыл и наш обоз. Я видел его впервые, и у меня были все основания прийти в изумление: у нас оказалось девятнадцать слуг и двадцать шесть вьючных мулов. Внушительный караван! И выглядел он внушительно, когда, извиваясь, пробирался меж скал. Понять невозможно, чего ради для восьми человек понадобилось такое снаряжение? Некоторое время я с недоумением смотрел на все это, но скоро затосковал по дымящимся бобам с салом, аппетитно поданным в жестяной миске. На своем веку я много раз ночевал под открытым небом и поэтому прекрасно знал, чего можно ждать. Ни на кого не надеясь, я расседлал лошадь и вымыл, как умел, ее выпирающие ребра и костлявую спину, а покончив с этим, оглянулся и не поверил своим глазам — здесь уже раскинулись пять величественных круглых шатров! Внутри они были богато убраны голубыми, золотистыми и алыми шелками! Я онемел. Потом слуги принесли восемь железных кроватей, поставили их в шатры и на каждую положили мягкие тюфяки, подушки, хорошие одеяла и по две белоснежные простыни. Вслед за этим вокруг центрального шеста, поддерживающего шатер, пристроили стол и на нем разместили оловянные кувшины, тазы, мыло и сияющие белизной полотенца — каждому отдельный набор; нам показали удобные карманы на внутренних стенах, пояснив, что мы можем положить туда всякую мелочь, а если нам понадобятся булавки или иголки, они понатыканы тут же. И в довершение всего по полу был раскинут ковер! «Если это называется ночевкой под открытым небом, — сказал я, — прекрасно, но я ни к чему такому не привык. Мои личные запасы совершенно обесценены».
Стемнело, и слуги поставили на столы свечи, да не какие-нибудь, а в новеньких блестящих бронзовых подсвечниках. Вскоре зазвенел колокольчик — самый настоящий, — и нас пригласили в «салон». Сперва я подумал, что по крайней мере один шатер у нас лишний, но теперь и ему нашлось применение: это, оказывается, столовая. Как и все прочие шатры, он был так высок, что тут могло бы поселиться семейство жирафов, внутри все так и сверкало и радовало глаз ярким убранством. Не шатер, а жемчужина! Стол на восемь персон, восемь парусиновых стульев, скатерть и салфетки такие тонкие и белоснежные, что рядом с ними те, к которым мы привыкли на нашем пароходе, покраснели бы со стыда; ножи, вилки, глубокие и мелкие тарелки — все в лучшем вкусе. Чудеса да и только! И это у них называется ночлег под открытым небом. Статные молодцы в широких шальварах и тюрбанах подали нам на обед жареного барашка, жареную курицу, жареного гуся, картофель, хлеб, чай, пудинг, яблоки и восхитительный виноград; яства были приготовлены превосходно, таких мы давно не едали, и давно не приходилось нам сидеть за таким красиво сервированным столом, украшенным среди многого другого большими мельхиоровыми подсвечниками. И однако наш учтивый Авраам вошел, низко кланяясь, и просил прощения, если что не так, — ведь снарядиться в такой далекий путь дело сложное, за всем не углядишь; но впредь он постарается, чтобы все было лучше.
Уже полночь, а в шесть утра мы снимаемся с лагеря.
У них это называется ночевать под открытым небом! При таких условиях паломничество в Святую Землю — истинное удовольствие.
Глава XV. Джексонвил в Ливанских горах. — Удивительный скакун Иерихон. — Паломничество на новый лад. — Библейские места: гора Хермон, поля сражений Иисуса Навина и т. д. — Гробница Ноя.
Мы расположились лагерем неподалеку от Темин-эль-Фока; мои спутники изрядно упростили это название, иначе нам бы его и не выговорить. Они назвали его Джексонвил. Здесь, в Ливанской долине, это звучит несколько странно, но зато запоминается куда легче арабского названия.
И музыкой ночь мы наполним,[163]
И стая дневных забот
Свернет шатры, как арабы,
И так же бесшумно уйдет[164].
Ночь я проспал крепким сном, однако услыхал и колокольчик драгомана в половине пятого и его крик, разнесшийся по окрестным горам: «Через десять минут завтрак!» Я удивился: уже целый месяц я не слыхал корабельного гонга, сзывающего пассажиров к завтраку, и всякий раз, как мы утром салютовали кому-нибудь, я узнавал об этом случайно, с чужих слов. Но проведя ночь под открытым небом, даже если над твоей головой раскинут пышный шатер, утром встаешь свежий и бодрый, особенно если дышишь свежим горным воздухом.
Не прошло и десяти минут, как я оделся и вышел из шатра. Стены салона были сняты, осталась только крыша, поэтому, сидя за столом, мы могли любоваться величественной панорамой гор, моря и подернутой дымкой долиной. Пока мы завтракали, неторопливо взошло солнце, и в его лучах все вокруг засияло и заискрилось всеми цветами радуги.
Горячие бараньи котлеты, жареная курица, омлет, жареный картофель и кофе — и все превосходное. Таково было меню. Приправой служил зверский аппетит — следствие трудного переезда накануне и освежающего сна на чистом воздухе. Спросив вторую чашку кофе, я оглянулся через плечо — и... О чудо! Наш белый лагерь исчез, точно по волшебству!
Поразительно, с какой быстротой эти арабы «свернули шатры», и еще поразительнее, с какой быстротой они собрали все хозяйство, не забыв ни одной мелочи, и исчезли.
В половине седьмого мы уже были в пути, и казалось, вся Сирия тоже пустилась в путь. По дороге нескончаемой чередой тянулись караваны мулов и верблюдов. Кстати, все это время мы пытались понять, на что похож верблюд, и теперь наконец поняли. Когда он опускается на все четыре колена и прижимается грудью к земле, чтобы удобнее было его навьючить, он, пожалуй, похож на плывущего гуся, а стоя напоминает страуса с лишней парой ног. Верблюды не красавцы, а выпяченная нижняя губа придает им чрезвычайно нахальное выражение[165]. Ступня у них громадная, плоская, раздвоенная и оставляет в пыли след, точно от пирога, из которого уже вырезан кусок. Верблюд неразборчив в еде. Будь ему по зубам могильный камень, он бы и камень сжевал. Здесь повсюду растет чертополох, весь в таких иглах, которые, по-моему, проколют любой ремень; если напорешься на такую колючку, поможет разве что крепкое словцо. Верблюд не брезгует и чертополохом. И по всему видно, что блюдо это ему приятно. По-моему, если подать верблюду на ужин бочонок гвоздей, это будет для него царское угощение.
Раз уж я заговорил о четвероногих, упомяну, что моего теперешнего коня зовут Иерихон. Он — кобыла. На своем веку я повидал немало замечательных лошадей, но такой еще не встречал. Я хотел заполучить пугливую лошадь, и эта вполне отвечает требованию. Мне казалось, что раз лошадь шарахается, значит она горяча. Если я прав, то другой такой горячей лошади нет на свете. Она пугается всего без разбору. Она смертельно боится телеграфных столбов; на мое счастье, они тянутся по обеим сторонам дороги, не то я всегда падал бы на один бок. А это скоро прискучило бы. Иерихон шарахался от всего, что нам попадалось на пути, кроме копны сена, — к ней, мне на удивленье, он подошел с самой безрассудной отвагой. И кто не отдал бы дань восхищения присутствию духа, которое он сохранял при виде мешка с ячменем! Когда-нибудь эта сверхъестественная дерзость будет стоить ему жизни.
Резвостью он не отличается, но, я думаю, он все-таки пронесет меня по всей Святой Земле. Одно нехорошо: хвост у него куцый — не то его отрубили, не то Иерихон случайно сам отсидел его, и с мухами он воюет при помощи копыт. Все бы ничего, но когда он пытается задней ногой лягнуть муху, сидящую у него на голове, это уже слишком. В один прекрасный день это доведет его до беды. У него есть еще привычка — оборачиваться и кусать меня за ноги. Я бы ничего не имел против, да только не люблю чересчур фамильярных лошадей.
По-моему, владелец этою сокровища ложно судил о нем. Он воображал, будто его конь — гордый, необъезженный скакун, — но это ошибка. Я знаю, что тот араб думал именно так, потому что, когда он вывел Иерихона на смотр в Бейруте, он все дергал его за поводья и покрикивал по-арабски: «Ну-ну, шалишь? Удрать норовишь, бешеный, шею сломать захотел?» А Иерихон ни о чем подобном и не помышлял, и вид у него был такой, словно он хочет прислониться к чему-нибудь и подумать на покое. К этому он склонен и сейчас, когда не шарахается от собственной тени и не воюет с мухами. Вот удивился бы его хозяин, когда бы знал это.
Весь день мы ехали по историческим местам. В полдень сделали трехчасовой привал в Мексехе — там, где Ливанские горы сходятся с горами Эль Кинейсех, и позавтракали, глядя вниз на необъятную ровную Ливанскую долину, похожую на цветущий сад. Вечером мы остановились неподалеку от этой долины, и теперь вся она открыта нашим взорам. Нам виден длинный, как спинной хребет кита, гребень горы Хермон, подымающийся над горами на востоке. И сейчас на нас падают «слезы Хермона», и шатры наши промокли насквозь.
По ту сторону дороги, высоко над долиной, мы разглядели в подзорные трубы смутные очертания знаменитых руин Баальбека, предполагаемого библейского Ваал-Гада. Иисуса Навина и еще кого-то сыны Израилевы послали соглядатаями в землю Ханаанскую[166], чтобы они разузнали, какова она, эта земля, — и они отозвались о ней наилучшим образом. Возвращаясь, они прихватили виноградную гроздь, и в детских книжках их всегда изображают несущими на шесте исполинскую кисть винограда, — такой груз, что хоть на мула навьючивай. Но книжки, по которым обучают в воскресной школе, несколько преувеличивают. Виноград здесь и по сей день превосходный, но кисти не так велики, как на картинках. Я был удивлен и огорчен, увидев, каковы они на самом деле, ибо те колоссальные гроздья были одной из самых сладостных иллюзий моего детства.
Итак, Иисус Навин отозвался о земле этой наилучшим образом, и сыны Израиля отправились в путь под предводительством Моисея, верховного правителя, а Иисус Навин командовал армией из шестисот тысяч воинов. С ними шло и несметное множество женщин, детей и прочего гражданского люда. И среди всего этого воинства, если не считать двух верных соглядатаев, не было ни одного, чья нога ступила бы на землю обетованную. Сорок лет эти люди и их потомки блуждали в пустыне, а потом Моисей, талантливый воин, поэт, государственный деятель и философ, взошел на вершину Фасги, и там свершился его таинственный жребий. Никто не знает, где его похоронили.
Не людям было суждено[167]
Могилу ту копать —
Бог ангелам велел своим
Земле его предать[168].
Тогда Иисус Навин совершил грозный набег, и словно дух разрушения пронесся от Иерихона до самого Ваал-Гада. Он вырезал людей, опустошил их поля и города их сравнял с землей. Тридцать одно царство из-за него лишилось царей. Можно, конечно, и так сказать, хотя, но правде говоря, едва ли это было лишением: в те времена царей было хоть отбавляй. Во всяком случае, он перебил тридцать одного царя и земли их разделил меж сынов Израилевых. Он разделил эту долину, которая простирается пред нами: итак, некогда она принадлежала евреям. Однако от евреев тут уже давно и следа не осталось.
А вон там, позади, в часе езды отсюда, лежит арабское селение, которое мы проезжали; дома похожи на каменные ящики из-под галантереи, и здесь находится гробница Ноя (того самого, что построил ковчег). Над этими древними горами и долами некогда носился ковчег, на котором приютилось все, что уцелело от исчезнувшего мира.
Я не приношу извинений за то, что позволил себе сообщить эти подробности. Кое-кому из моих читателей они безусловно неведомы.
Гробница Ноя каменная, и над нею возведено длинное каменное здание. Бакшиш отворил нам двери. Здание не могло быть короче, ибо гробница высокочтимого древнего мореплавателя занимает в длину целых двести десять футов! Правда, высота ее всего фута четыре. Должно быть, Ной отбрасывал такую же узкую и длинную тень, как громоотвод. Лишь чрезвычайно недоверчивые люди могут усомниться в том, что Ной был похоронен именно здесь. Доказательства самые неопровержимые: Сим, сын Ноя, сам присутствовал на похоронах и указал на это место своим потомкам, те в свою очередь передали об этом своим потомкам, и прямые потомки этих потомков представились сегодня нам. Очень приятно было познакомиться с членами столь почтенной семьи. Тут есть чем гордиться. Это почти все равно, что свести знакомство с самим Ноем.
Отныне я всегда буду чувствовать себя причастным к памятному плаванию Ноя.
Если есть на свете угнетенный народ, так это тот, который изнывает здесь под тиранической властью Оттоманской империи. Очень бы я хотел, чтобы Европа позволила России слегка потрепать турков, — не сильно, но настолько, чтобы нелегко было отыскать Турцию без помощи водолазов или магов с волшебной палочкой. Сирийцы очень бедны, и все же на них навалено такое бремя налогов, какого не стерпел бы никакой другой народ. В прошлом году налоги были поистине достаточно высоки, но в этом году они еще возросли: сверх обычных жители должны были выплатить еще те налоги, которые им простили в прошлые, голодные годы. Да кроме того правительство взимает одну десятую со всех доходов, которые приносит крестьянину земля. Но и это еще не все. Паша не утруждает себя назначением сборщиков налогов. Он подсчитывает, сколько всего ему следует получить с того или иного округа, а потом отдает сбор налогов на откуп. Он созывает богачей, и тот, кто предложит больше всех, тут же отдает ему деньги и получает на откуп весь округ; потом он распродает его рыбешке помельче, а та в свою очередь распродает его шайке совсем уже мелких разбойников. К тому же эти разбойники заставляют крестьян самих привозить свой жалкий урожай в селение. Там его должны взвесить, отобрать все, что идет в счет различных налогов, а остатки возвратить хозяину. Но сборщики не торопятся, они откладывают окончательный расчет со дня на день, а тем временем семья крестьянина погибает с голоду; и под конец бедняга, который отлично понимает, в чем тут соль, говорит: «Ладно, берите четверть, берите половину, берите хоть две трети, только отпустите меня!» Может ли быть что-нибудь возмутительнее!
Народ здесь по природе своей умный и добросердечный, и, будь он свободен, будь ему доступно образование, он жил бы в довольстве и счастье. Местные жители часто спрашивают чужестранцев: неужели Европа не придет им на помощь и не спасет их? Султан без счету сорил деньгами в Англии и Париже, а теперь его подданные расплачиваются за это.
Наши «ночлеги под открытым небом» приводят меня в полнейшее недоумение. У нас уже есть приспособление, чтобы стаскивать сапоги, есть ванна, а вскрыты еще далеко не все таинственные тюки, навьюченные на мулов. Чем еще они нас порадуют?
Глава XVI. Патриархальные правы. — Величественный Баальбек. — Описание руин. — Самовлюбленные Смиты и Джонсы. — Приверженность паломников букве закона. — Почитаемый источник, из которого пила Валаамова ослица.
Пять долгих часов мы тащились под палящим солнцем по Ливанской долине. Она оказалась не таким уж цветущим садом, каким представлялась нам с вершины горы. Это пустыня, голая, поросшая плевелом и густо усыпанная камнями величиной с кулак. Кое-где местные жители вспахали землю, и там взошли хилые колосья пшеницы, но большая часть долины отдана горстке пастухов, чьи стада честно стараются добыть себе пропитание, хотя это им плохо удается. То и дело по обочинам дороги нам попадались груды камней — так еще во времена Иакова обозначали межи. Ни стен, ни заборов, ни живых изгородей — ничто, кроме этих каменных груд, не охраняет земельной собственности. Для израильтян древних, патриархальных времен такие межевые знаки были священны, а нынешние арабы, их прямые потомки, следуют их примеру. При такой вольной системе ограждений любой заурядного ума американец вскоре значительно расширил бы свои владения, потрудившись ночку-другую.
Землю здесь пашут просто-напросто заостренным колом, подобным тому, который служил плугом еще Аврааму, и зерно веют, как веял он: ссыпают его на крышу, а потом подкидывают лопатами в воздух до тех пор, пока ветер не сдует всю мякину.
Целую милю мы состязались в резвости с арабом, ехавшим на верблюде. Некоторые лошади шли хорошо и показали отличное время, но верблюд без всякого труда обошел их. Все участники скачки вопили, кричали, нахлестывали своих коней и поднимали их в галоп, — словом, много было волнения, смеху, а главное — шума.
В одиннадцать часов перед нами предстали стены и башни Баальбека, знаменитые руины, чья история — книга за семью печатями[169]. Тысячелетия стоит он, удивляя и восхищая путешественников; но кто его строил и когда — этого, быть может, никто так и не узнает. Только одно несомненно. Ничто созданное руками человеческими за последние два тысячелетия не сравнится по грандиозности замысла и тонкости исполнения с храмами Баальбека.
Величественный храм Солнца, храм Юпитера и несколько храмов поменьше стоят близко друг к другу посреди одной из жалких сирийских деревушек и странно выглядят в такой плебейской компании. Эти храмы покоятся на таких массивных фундаментах, что кажется, они выдержали бы чуть не весь земной шар; они сложены из каменных глыб величиной с добрый омнибус, — не знаю, найдется ли хоть одна меньше рабочего сундучка плотника, — и прорезаны туннелями, по которым без труда прошел бы железнодорожный состав. Ничего удивительного, что Баальбек стоит по сей день. Длина храма Солнца почти триста футов, ширина сто шестьдесят. Пятьдесят четыре колонны окружали его, но сейчас стоят только шесть, остальные повержены и превратились в беспорядочные живописные груды. Шесть устоявших колонн превосходны, в них все совершенно — и цоколь, и коринфские капители, и антаблемент. На свете нет колонн красивее. Вместе с антаблементом они достигают девяноста футов в высоту — это поистине неправдоподобная высота, — и однако, глядя на них, думаешь лишь о том, как они прекрасны и гармоничны; столбы стройны и изящны, а прекрасную скульптуру на антаблементе можно принять за искусные лепные украшения. Но когда глаза ваши устали и вы уже больше не можете глядеть вверх, вы бросаете взгляд на громадные обломки колонн, что валяются вокруг, и оказывается, что каждая из них восьми футов в поперечнике; тут же лежат прекрасные капители размером с небольшой коттедж и каменные плиты с мастерски высеченными горельефами, каждая четырех-пяти футов толщиной и такая огромная, что ею можно бы покрыть иол гостиной средней величины. Вы удивляетесь: откуда взялись эти громадины, и не сразу догадываетесь, что воздушное, грациозное сооружение, которое вздымается над вашей головой, сложено из таких же плит. В это просто невозможно поверить.
Развалины храма Юпитера не так велики, как те, о которых я только что рассказал, однако и они грандиозны. Храм довольно хорошо сохранился. В одном ряду все девять колонн почти не пострадали. Высота их шестьдесят пять футов, и они поддерживают нечто вроде портика или крыши, переходящей в крышу храма. Эта крыша-портик сложена из гигантских каменных плит, украшенных с внутренней стороны превосходной резьбой, и снизу кажется, что она покрыта фресками. Две или три плиты свалились, и снова я спрашивал себя: неужели эти громадные каменные глыбы, обработанные искусным ваятелем, лежащие у моих ног, не больше тех, что я вижу наверху? Внутренняя отделка храма изящна и в то же время грандиозна. Каким чудом зодчества, чудом красоты и величия был, вероятно, этот храм, когда его только что построили! Как прекрасен он еще и сейчас, когда, залитый лунным светом, он поднимается вместе со своим еще более величественным собратом среди хаоса разбросанных вокруг гигантских обломков!
Я не могу постичь, как удалось доставить сюда из каменоломни эти гигантские глыбы, как их ухитрились поднять на такую головокружительную высоту. И однако эти плиты кажутся детскими игрушками по сравнению с грубо обтесанными глыбами, из которых сложена широкая веранда, или площадка, окружающая храм Солнца. Одна сторона этой площадки, длиной в двести футов, сложена из каменных глыб величиной с конку, а то и больше. Они увенчивают стену футов в десять-двенадцать вышиной. Эти глыбы казались мне огромными, но они до смешного малы по сравнению с теми, из которых сложен другой край площадки. Их три, и, по-моему, каждая длиной в три поставленных одну за другой конки, но при этом, конечно, втрое шире и выше. Пожалуй, два самых больших товарных вагона, поставленные друг за другом, дадут более правильное представление об их размерах. Общая длина этих трех глыб почти двести футов, ширина тринадцать футов; две глыбы — длиной по шестьдесят четыре фута, третья — шестьдесят девять. Они поднимаются над землей футов на двадцать, точно стена. Они здесь, эти глыбы, но как они сюда попали, понять невозможно. Однажды я видел пароход, который был меньше такого камня. И все эти громадные стены возведены так же тщательно и ровно, как наши сегодняшние шаткие постройки из обыкновенного кирпича. Должно быть, много веков назад Баальбек населяло племя богов или исполинов. Обыкновенному человеку нашего времени не под силу воздвигать подобные храмы.
Мы направились к каменоломне, откуда в Баальбек доставляли камень. Она под горой в четверти мили отсюда. В огромной яме лежит еще одна глыба — такая же, как самые большие из только что виденных нами. Она лежит здесь так, словно в те незапамятные времена какие-то исполины-строители внезапно оставили ее и ушли отсюда по чьему-то зову; лежит здесь тысячи лет, как красноречивый укор тем людям, которые имеют склонность смотреть свысока на наших далеких предков. Эта огромная глыба лежит там совсем готовая — четырнадцать футов в ширину, шестнадцать в толщину и почти семьдесят футов длиной, — лежит и дожидается, чтобы ее подняли! Если по ней провезти две вагонетки, поставив их рядом, то по обеим сторонам еще смогут пройти по два человека.
Можно поклясться, не боясь стать клятвопреступником, что все Джоны Смиты, Джорджи Уилкинсоны и прочая мелкая сошка, населяющая пространства между царством теней и Баальбеком, рада нацарапать свои безвестные имена на величественных руинах Баальбека да еще прибавить к ним название города, округа и штата, откуда они родом. Жаль только, что ни одна из древних развалин не обрушивается на кого-нибудь из этих жалких пресмыкающихся, дабы у всей их породы раз и навсегда пропала охота увековечивать свое имя на прославленных памятниках старины.
На наших клячах мы могли добраться до Дамаска в три дня. А нам непременно надо было проделать этот путь меньше чем за два. Это было необходимо потому, что трое наших паломников свято соблюдают день субботний. Мы все рады были не нарушать субботы, но бывают случаи, когда придерживаться буквы священного закона, дух которого неизменно справедлив, просто грешно, и такой случай был на сей раз. Мы заклинали пощадить усталых, замученных лошадей, убеждали, что они верой и правдой служат нам и вправе ожидать от нас взамен доброго отношения и сострадания к их тяжкой доле. Но разве тому, кто превыше всего гордится своей праведностью, ведома жалость? Что значили еще несколько долгих часов труда для измученных животных по сравнению с опасностью, грозившей душам наших праведников! В обществе людей, до такой степени приверженных религии, не слишком приятно путешествовать и мудрено укрепиться в вере. Мы говорили им, что Спаситель, который жалел всякую бессловесную тварь и учил, что вола следует вытащить из трясины даже в день субботний, не одобрил бы этот ненужный и непосильный переход. Мы говорили, что наше путешествие утомительно, в такой палящий зной оно просто опасно даже при обычных переходах, а если мы будем упорствовать и не посчитаемся со своими силами, некоторые из нас могут пасть жертвой местной лихорадки. Но паломники оставались непреклонны — они должны спешить во что бы то ни стало. Пусть умирают люди и лошади, но на будущей неделе они должны ступить на священную землю, не запятнав себя нарушением субботы. Итак, они готовы были погрешить против духа религиозного закона, лишь бы не нарушить его буквы. Не стоило труда объяснять им, что «буква убивает». Люди, о которых я сейчас говорю, мои друзья, я питаю к ним самые теплые чувства, они честные граждане, вполне почтенные и добропорядочные, но, мне кажется, они неправильно понимают христианское учение. Они беспощадно осуждают наши недостатки и каждый вечер собирают нас и читают нам главы из Нового завета, который весь проникнут кротостью, милосердием и состраданием, а назавтра они с утра садятся в седло и не слезают с него до поздней ночи, то взбираясь на вершины здешних суровых гор, то спускаясь в долины. Разве усталая, замученная, полудохлая кляча заслуживает, чтобы к ней отнеслись с евангельской кротостью, милосердием и состраданием? Вздор! Это все относится к человеку, которого Бог создал по своему образу и подобию, а не к бессловесной твари. Мое уважение к нашим исполненным праведности паломникам столь велико, что не разрешает мне вмешиваться, но если бы не они, а любой другой из наших спутников позволил себе хоть раз погнать лошадь на такие крутые горы, я бы не спустил ему этого.
Мы много раз подавали паломникам хороший пример, который мог бы пойти им на пользу, но все напрасно. Никогда они не слыхали, чтобы кто-нибудь из нас сказал другому грубое слово, но сами они не раз всерьез бранились. Приятно послушать их перебранку после того, как они только что наставляли нас. Едва мы бросили якорь в Бейруте, они уселись в лодку и перессорились, еще не доехав до берега. Я говорил, что они хорошие люди, — они и в самом деле хорошие люди, но всякий раз, как они станут отчитывать меня, я намерен огрызаться в печати.
Мало им того, что пришлось удвоить наши обычные переходы, — нет, они еще свернули с дороги, чтобы поглядеть на какой-то дурацкий источник Фигия, потому что из него когда-то пила Валаамова ослица. Итак, мы ехали через непроходимые горы и пустыни, отыскивая эту почтенную лужу, из которой пила Валаамова ослица, покровительница всех паломников вроде нас. В своей записной книжке я отыскал только одну заметку об этом переходе:
Сегодня провели в седле в общей сложности тринадцать часов; сперва ехали пустыней, потом по голым, бесплодным горам и под конец среди диких скал; часов в одиннадцать сделали привал на берегу прозрачного ручья, близ сирийской деревушки. Не знаю ее названия и знать не хочу, хочу спать. Две лошади охромели (моя и Джека), остальные совершенно выбились из сил. Мы с Джеком мили четыре шли пешком по горам, ведя лошадей в поводу. Сомнительное развлечение.
Двенадцать-тринадцать часов в седле, даже если едешь по божеской земле и в божеском климате и притом на хорошем коне, и то дело нелегкое; но в таком пекле, как Сирия, да в неудобном и неустойчивом седле, которое ерзает по спине лошади во всех направлениях и качает тебя бортовой и килевой качкой, а лошадь у тебя загнанная, хромая и все-таки ее поминутно приходится подхлестывать и пришпоривать, пока не раздерешь ей бока в кровь, и если ты не зверь, а человек, тебя всякий раз мучит совесть, — такое путешествие будешь вспоминать с отвращением и проклинать с жаром чуть не до самой смерти.
Глава XVII. Выдержки из путевого дневника. — Рай по Магомету-— Красавец Дамаск. — Улица «так называемая Прямая». — Избиение христиан. — Дом Неемана. — Ужасы проказы.
Следующий день был поистине надругательством и над людьми и над животными. Опять был тринадцатичасовой переход (включая часовой полуденный привал). Мы ехали по таким бесплодным меловым горам и голым ущельям, какие даже в Сирии редкость. Воздух дрожал от зноя. В раскаленных ущельях нечем было дышать. Когда мы поднимались из ущелий, на высотах нас слепили залитые солнцем меловые склоны. Было жестоко понукать несчастных, покалеченных лошадей, но ничего не поделаешь — сегодня к вечеру надо было поспеть в Дамаск. Мы видели древние гробницы и причудливые храмы, высеченные в скалах высоко над пропастью, но у нас не было ни сил, ни времени взбираться туда и осматривать их. Краткие записи в моем путевом дневнике поведают обо всем, что еще произошло в этот день:
Снялись с лагеря в семь утра, был тяжкий переход по Зебданской долине и крутым горам; лошади хромают, а этот араб, накликающий на нас всякие беды, который громче всех поет и везет мехи с водой, конечно и сейчас уехал за сто миль вперед, и нам нечем утолить жажду, — неужели он никогда не сломит себе шею? Прелестный ручеек в глубокой расселине, по берегам пышно разрослись гранаты, фиги, оливы, айва; часовой привал в полдень у Фигии — источника знаменитой Валаамовой ослицы, он второй по величине в Сирии, вода ледяная, как в Сибири; в путеводителях не сказано, что Валаамова ослица пила здесь, — наверно, кто-нибудь подшутил над паломниками. Мы с Джеком окунулись и тотчас выскочили как ошпаренные: вода ледяная. Это главный источник, питающий реку Авана, он впадает в нее всего в полумиле отсюда. Место красивое, повсюду исполинские деревья, так здесь тенисто, прохладно, если бы только достало сил не уснуть; широкий поток стремительно вырывается прямо из-под горы, над ним древние развалины; история их никому не ведома, предполагают, что некогда здесь поклонялись божеству источника, или Валаамовой ослице, или еще кому-нибудь. У источника гнездится жалкий сброд; отрепья, грязь, впалые щеки, болезненная бледность, язвы, костлявые тела, тупое страдание в глазах, весь вид этих несчастных — красноречивое свидетельство неутолимого голода. Как накидывались они на кость, как грызли хлеб, который мы давали им! Они обступают тебя и жадно глядят тебе в рот и, сами того не замечая, поминутно глотают слюну, словно бы это им, а не тебе достался драгоценный кусок... Скорее в путь! В этой многострадальной стране я уже никогда не смогу есть в свое удовольствие. Подумать только, что еще три недели придется есть по три раза в день на глазах у голодных людей, — это хуже, чем весь день ехать верхом под палящим солнцем. Среди этих несчастных шестнадцать детей в возрасте от года до шести лет, ноги у них тонкие, как палочки. Уехали от источника в час дня (чтобы повидать его, нам пришлось пробыть в пути лишних два часа) и добрались до скалы, с которой Магомет смотрел на Дамаск, как раз вовремя, чтобы успеть насладиться видом. Устали ли мы? Спроси у ветра, что вдали по морю носит корабли!
На смену ослепительному дню пришли сумерки, а мы стояли и глядели вниз, на прославленную на весь мир картину. Сотни раз читал я о том, как еще простым погонщиком верблюдов Магомет пришел сюда и, впервые увидав Дамаск, сказал слова, ставшие потом знаменитыми. Человеку дано войти только в один рай, сказал он, так лучше я войду в рай небесный. И он сел тут и любовался земным раем — Дамаском, и потом пошел прочь, не вступив в его врата. И на этом месте воздвигли башню.
Когда смотришь с горы, Дамаск и в самом деле прекрасен. Он кажется прекрасным даже иностранцам, для которых пышная зелень не диво, — каким же несказанно прекрасным он должен казаться глазу, привыкшему к бесплодной и пустынной, забытой Богом Сирии. Не удивительно, если сирийцем овладевает неистовый восторг, когда ему впервые открывается эта картина.
Стоишь здесь, на высокой скале, и видишь, как перед тобой стеною встают мрачные, без единой травинки, раскаленные солнцем горы, они ограждают ровную пустыню — желтый, гладкий, как бархат, песок насколько хватает глаз прошит тонкими нитями дорог, и по ним медленно движутся точки: караваны верблюдов и путники; а посреди пустыни расплескались зеленые волны листвы, и в самом сердце ее, словно жемчужно-опаловый остров в изумрудном море, мерцает белый город. Смотришь с высоты на эту картину, смягченную расстоянием, осиянную солнцем, поражающую воображение резкими контрастами, и над всем царит дремотный покой, придавая городу волшебную одухотворенность, словно это прекрасный выходец из таинственного мира сновидений, а не самый обыкновенный житель нашей грубой и скучной планеты. И, вспоминая оставшиеся позади мили и мили гиблого, окаянного, бесплодного, скалистого, выжженного солнцем, уродливого, мрачного, мерзкого края, думаешь: какая красота, прекраснее нет уголка во всей вселенной! Если бы мне предстояло вновь посетить Дамаск, я провел бы с неделю на горе Магомета — и уехал. Незачем входить в город. Сам того не подозревая, пророк поступил мудро, когда решил не спускаться в этот дамасский рай.
Старое, почтенное предание говорит, что сад, в котором стоит Дамаск, и есть Эдем, и современные писатели подобрали много всяких доказательств тому, что это в самом деле был Эдем и что реки Фарфар и Авана и есть те две реки, которые омывали рай, где пребывал Адам. Может, так оно и было, но теперь это отнюдь не рай. И у человека так же мало надежды обрести счастье в нем, как и вне его. Улочки его такие кривые, тесные, грязные, что даже поверить невозможно, будто это и есть тот прекрасный город, который ты видел с горной вершины. Сады прячутся за высокими глинобитными стенами, и «рай» стал настоящей клоакой для стока отбросов и нечистот. Впрочем, в Дамаске сколько угодно чистой, прозрачной воды, и одного этого довольно, чтобы арабы считали город прекрасным и благословенным. В обожженной солнцем Сирии вода ценится на вес золота. В Америке мы прокладываем железные дороги к большим городам; в Сирии проводят дороги так, чтобы они подходили к каждой жалкой луже, — здесь их называют источниками, и от одного до другого не меньше четырех часов езды. Но библейские реки Фарфар и Авана (вернее, не реки, а речушки) омывают Дамаск, и поэтому в каждом доме и в каждом саду есть свои искрящиеся на солнце источники и ручейки. Весь в зелени, изобильный водою Дамаск кажется чудом из чудес бедуину, жителю пустыни. А на самом деле — это всего лишь оазис. Вот уже четыре тысячи лет не иссякают его источники, не оскудевает плодородная почва. Теперь понятно, почему так долговечен этот город. Он не мог умереть. До тех пор, пока не пересохнут его воды, до тех пор будет он жить среди унылой пустыни и радовать взор усталого, томимого жаждой путника.
Древний, как сама история, ты свеж, как дыхание весны, ты цветешь, как твои утренние розы, и благоухаешь, как померанец, о Дамаск, жемчужина Востока!
Дамаск существовал еще до времен Авраама, это древнейший город на земле. Он был заложен Уцом, внуком Ноя. «Ранняя история Дамаска окутана туманом седой древности». Если не говорить о событиях, описанных в первых одиннадцати главах Ветхого завета, Дамаск был свидетелем всего, что происходило на земле и стало известно истории. Как далеко ни углубляйтесь в туманное прошлое, всегда вы найдете Дамаск. Вот уже четыре тысячи лет, как он упоминается и восхваляется в письменных памятниках всех веков. Для Дамаска годы подобны мгновениям, десятилетия быстротечны и мимолетны. Он измеряет время не днями, не месяцами, не годами, но империями, которые возвышались, процветали и рушились у него на глазах. Он из когорты бессмертных. Он видел рождение Баальбека, и Фив, и Эфеса. На его глазах эти селения превращались в могущественные города и поражали мир своим великолепием, и он дожил до дней, когда они опустели и обезлюдели и стали приютом одних лишь сов и летучих мышей. Он видел, как возникло царство Израиля и как оно было уничтожено. Он видел, как возвысилась, две тысячи лет процветала, а потом погибла Греция. Уже в старости он видел, как построили Рим, видел, как он затмил своей мощью весь мир, видел его гибель. Несколько столетий могущества и блеска Генуи и Венеции для старого степенного Дамаска были лишь короткой вспышкой, едва достойной воспоминания. Дамаск был воздвигнут в незапамятные времена, и он жив по сей день. Он глядел на обломки сотен империй и он переживет еще сотни. Хотя другую столицу зовут так[170], но старый Дамаск должен по праву называться вечным городом.
Мы подъехали к городским воротам в час заката. Нас уверяют, что ночью бакшиш может ввести человека в любой город Сирии, только не в Дамаск. Дамаск, чтимый всем миром уже четыре тысячелетия, о многом мыслит старомодно. Там нет уличных фонарей, и закон велит всем, кто выходит из дому по ночам, зажигать свои собственные фонари, как делали в старину, когда герои и героини «Тысячи и одной ночи» расхаживали по улицам Дамаска или улетали в Багдад на коврах-самолетах.
Едва мы оказались в городских стенах, совсем стемнело, и мы долго ехали по невероятно кривым улицам футов восьми-девяти шириной, по обе стороны которых, скрывая сады, тянутся высокие глинобитные стены. Наконец мы добрались до улиц, на которых то здесь, то там мелькали фонари, и поняли, что мы в самом сердце удивительного древнего города. В узкой улочке, забитой нашими вьючными мулами и толпой ободранных арабов, мы спешились и через какой-то пролом в стене вошли в гостиницу. Мы оказались в просторном, вымощенном плитами дворе, у водоема, в который из множества труб лилась вода, а вокруг всюду были цветы и лимонные деревья. Потом мы пересекли двор и вошли в приготовленные для нас комнаты. Меж двух комнат, каждая из которых была рассчитана на четырех человек, — выложенный мрамором бассейн с чистой прохладной водой, которая вливается в него из шести труб. На этой обожженной солнцем, иссохшей земле ничто не порадует вас такой свежестью, как эта прозрачная вода, сверкающая в свете фонарей, ничто так не радует взор, не ласкает непривычный к подобным звукам слух, как этот искусственный дождь. Нам отвели большие, уютно обставленные комнаты, где полы покрыты мягкими яркими коврами. Приятно было снова увидеть ковер, ибо нет ничего на свете мрачнее выложенных камнем, точно гробницы, гостиных и спален Европы и Азии. Там волей-неволей все время думаешь о смерти. Очень широкий, пестрый диван футов четырнадцати длиной тянется по одной стене каждой комнаты, а напротив стоят односпальные кровати с пружинными матрацами. Есть тут и большие зеркала и мраморные столики. Вся эта роскошь была истинной благодатью для наших чувств и тел, изнуренных утомительным переходом, и притом совершенной неожиданностью, ибо никогда нельзя знать, что ждет тебя в турецком городе, даже если в нем четверть миллиона жителей.
Не могу утверждать, но боюсь, что из этого бассейна меж двух комнат берут воду для питья; я не думал об этом, пока не окунул свою опаленную солнцем голову в прохладные глубины. И тут-то меня осенило, и, как ни сладостна была ванна, я пожалел, что принял ее, и готов был пойти повиниться перед хозяином. Но в эту минуту вбежал мелкозавитой, благоухающий пудель и игриво тяпнул меня за икру; я тут же кинул его в бассейн, а завидев слугу с кувшином, поспешно скрылся, предоставив щенку выбираться оттуда своими силами, что ему не очень-то удавалось. Утолив жажду мести, я почувствовал, что мне больше ничего не нужно для счастья, и совершенно ублаготворенный явился к ужину в свой первый вечер в Дамаске. После ужина мы долго лежали на диванах, курили наргиле и трубки с длинными чубуками, вспоминали тяжелый дневной переход, и я лишний раз убедился, что время от времени не плохо выбиться из сил, потому что отдых тогда становится истинным наслаждением.
Наутро мы послали за осликами. Любопытно отметить, что нам пришлось именно послать за ними. Я уже говорил, что нравы в Дамаске допотопные, и так оно и есть. В любом другом городе нас бы уже осаждала крикливая армия погонщиков ослов, гидов, уличных торговцев и попрошаек, но в Дамаске самый вид чужестранца-христианина вызывает такую ненависть, что никто не желает иметь с ним никакого дела; всего год-два назад ему небезопасно было появляться на улицах Дамаска. Это магометанское чистилище исполнено самого неистового во всей Аравии фанатизма. На каждого хаджи в зеленом тюрбане (почетный знак того, что сей счастливец совершил паломничество в Мекку), которого вы встретите в любом другом городе, в Дамаске, я думаю, вам их попадется не меньше десятка. На вид жители Дамаска самые что ни на есть отвратительные и злобные негодяи. Почти все женщины, закутанные в покрывала, которых мы видели до сих пор, не прятали глаз, но лица большинства жительниц Дамаска совсем скрыты под черными покрывалами, и это делает их похожими на мумии. А если мы когда и встречали взгляд женских глаз, они тотчас прятались, дабы вид христианина не осквернил их; нищие и те обходили нас, не требуя бакшиша; торговцы на базарах не протягивали нам своих товаров и не кричали во всю глотку: «Эй, Джон!», или: «Какпоживай, гляди!» Нет, они не говорили ни слова и только провожали нас хмурыми взглядами.
На узких улицах, точно пчелы в улье, кишат мужчины и женщины в странных восточных одеждах, а мы пробираемся меж ними, и наши ослы, понукаемые безжалостными погонщиками, расталкивают толпу. Погонщики часами бегут за ослами и, понукая их криком и тычками, все время заставляют скакать гало-ном, и при этом сами никогда не выбиваются из сил и не отстают. Случалось, осел падал и седок летел через его голову; поднявшись, он снова садился верхом и поспешал дальше. Нас кидало то на острые выступы, то на носильщиков с грузом, то на верблюдов, а главное — на пешеходов, и мы так были поглощены этими бесконечными столкновениями, что не успевали смотреть по сторонам. Мы проехали полгорода и половину знаменитой «улицы, так называемой Прямой», почти ничего не увидав. Мы едва не вывихнули себе все суставы, бока у нас ныли от бесчисленных тумаков, злость в нас кипела. Нет, не по вкусу мне дамасский городской транспорт.
Мы направлялись к домам Иуды и Анании. Восемнадцать-девятнадцать веков назад Савл, родом из Тарса[171], необычайно ожесточился против новой секты, называемой христианами; он ушел из Иерусалима и отправился по стране разыскивать и уничтожать их. Он шел, «дыша угрозами и убийствами на учеников Господа».
Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.
Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему.
Савл! Савл! Что ты гонишь меня...
И когда он узнал, что это Иисус говорит с ним, он задрожал, удивился и сказал:
Господи, что повелишь мне делать?
Ему было велено встать и идти в древний город, где ему скажут, что делать. А меж тем люди, шедшие с ним, стояли пораженные ужасом, ибо они слышали таинственный голос, а не видели говорящего. Савл поднялся и тут же понял, что этот жгучий сверхъестественный свет ослепил его и он лишился зрения, и они «повели его за руку и привели в Дамаск». Так был он обращен в веру Христову.
Три дня ослепленный Савл лежал в доме Иуды, и все это время он не ел и не пил.
Один из жителей Дамаска, именем Анания, услышал голос, и сказано ему было:
Встань и пойди на улицу так называемую Прямую и спроси в И удином доме тарсянина по имени Савл: он теперь молится.
Анания сперва не хотел идти, потому что он уже прежде слышал о Савле и сомневался, тот ли это «избранный сосуд», который может возвещать имя Господа перед народами. Однако он повиновался, пошел на улицу «так называемую Прямую» (как ему удалось найти эту улицу и как он потом выбрался из нее, остается тайной, которую можно объяснить разве только тем, что он действовал по вдохновению свыше). Он отыскал Савла и вернул ему зрение и посвятил его в проповедники; и в этом старом доме, который мы разыскали на улице, по ошибке названной Прямой, начал он свой путь бесстрашного миссионера и остался верен ему до конца своих дней.
Это не был дом того ученика Иисуса, который продал его за тридцать сребреников. Я объясняю это, чтобы отдать должное Иуде, человеку совсем иного склада, чем упомянутый мною выше. Это совсем другой человек, и жил он в прекрасном доме. Жаль, что мы знаем о нем так мало.
Изложенные мною сведения предназначаются для людей, которые не станут читать библейскую историю, если не принудить их к этому какой-нибудь хитростью. Надеюсь, что среди многих сторонников прогресса и образования не найдется ни одного, кто будет ставить мне палки в колеса при исполнении этой миссии.
Улица, называемая Прямой, несколько прямее штопора, но не сравнится в прямизне с радугой. Евангелист Лука не решается утверждать, что эта улица — прямая, но говорит осторожно: «улица так называемая Прямая». Это тонкая ирония; и по-моему, это единственная шутка во всей Библии. Мы проехали изрядный кусок по улице, так называемой Прямой, потом спешились и нанесли визит дому Анании. Часть старого дома несомненно сохранилась — это комната футах в двенадцати — пятнадцати под землей, — сразу видно, что его каменная кладка очень древняя. Если во времена апостола Павла Анания и не жил здесь, то уж непременно жил кто-нибудь другой, а это не составляет разницы. Я напился воды из Ананиева колодца, и, как это ни странно, вода оказалась такой свежей, словно его вырыли только вчера.
Мы отправились дальше, к северной окраине города, чтобы увидеть место, где темной ночью ученики Господа спустили Павла по ту сторону городской стены, — ибо он так бесстрашно проповедовал учение Иисуса, что жители Дамаска хотели убить его, как они сделали бы и сегодня, услышь они те же слова, — и ему пришлось ради спасения своего бежать в Иерусалим.
Потом мы посетили могилу детей Магометовых и могилу, в которой будто бы похоронен святой Георгий, убивший дракона, и добрались до пещеры под скалой, в которой скрывался Павел после своего побега, пока преследователи не перестали гнаться за ним; а потом нам показали мавзолей, воздвигнутый в память пяти тысяч христиан, которых турки вырезали в Дамаске в 1861 году. Говорят, по его узким улочкам несколько дней подряд потоками лилась кровь; мужчин, женщин, детей убивали без разбору, и сотни неубранных трупов валялись по всему христианскому кварталу; зловоние было ужасное. Все христиане, кто только мог, бежали из города, а магометане не желали пачкать руки, предавая земле «неверных собак». Жажда крови обуяла и горных жителей Хермона и Антиливана, и вскоре еще двадцать пять тысяч христиан были вырезаны, а имущество их разграблено. Как люто ненавидят христиан в Дамаске, да и по всей Турецкой империи! И как дорого они заплатят за это, когда Россия вновь наведет на них свои пушки!
На душе становится легче, когда поносишь Англию и Францию за их старания спасти Оттоманскую империю от гибели, которой она вполне заслужила за минувшее тысячелетие. Мое самолюбие страдает, когда я вижу, что эти язычники отказываются отведать приготовленной для нас пищи, есть из тарелок, из которых ели мы, или пить из бурдюка, оскверненного прикосновением наших нечестивых уст, не процедив воду через тряпочку или через губку! Ни один китаец не вызывал у меня такой неприязни, как эти вырождающиеся турки и арабы, и я надеюсь, что, когда Россия будет готова снова пойти на них войной, Англия и Франция поймут, что их вмешательство и непристойно и безрассудно.
Жители Дамаска воображают, будто в целом свете нет других таких рек, как их жалкие Авана и Фарфар. Да они и всегда так думали. В «Четвертой книге царств», в пятой главе, Нееман сверх меры похваляется ими. Это было три тысячи лет назад. Он говорит: «Разве Авана и Фарфар, реки дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» Но кое-кто из моих читателей давным-давно забыл, кто такой Нееман. Нееман — сирийский военачальник. Он был любимец царя и пользовался большим почетом, «и человек сей был отличный воин, но прокаженный». Странное совпадение, что дом, в котором, как нас теперь уверяют, он некогда жил, отведен под больницу для прокаженных, и больные выставляют напоказ свои ужасные уродства и ко всякому входящему протягивают руки, выпрашивая бакшиш.
Пока не побываешь в древнем жилище Неемана в Дамаске и не поглядишь на все эти страшные язвы, не поймешь, как ужасен этот недуг. Искривленные, изуродованные кости, огромные наросты на лице и на теле, сгнившие, отваливающиеся суставы — чудовищное зрелище!
Глава XVIII. Холера. — Жара. — Могила Нимрода. — Самые величественные из всех развалин. — Мы переступаем границу Святой Земли. — Купанье в истоках Иордана. — В погоне за новыми реликвиями. — Кесария Филиппова. — Народ, среди которого проповедовали апостолы. — Чувствительный конь, боготворимый арабами.
В последние сутки нашего пребывания в Дамаске меня свалил сильнейший приступ холеры, и поэтому я с полным правом лежал на широком диване и пользовался совершенно законным отдыхом. Делать мне было нечего, я лишь слушал, как журчит вода в бассейне, да принимал лекарства, да извергал их обратно. Опасное развлечение, но все же куда более приятное, чем путешествие по Сирии. К моим услугам было сколько угодно снегу с горы Хермон, и так как он не задерживался у меня в желудке, ничто не мешало мне есть его — всегда было место для новой порции снега. Я наслаждался жизнью. В путешествии по Сирии, как и по всякой другой стране, есть своя прелесть, а кроме того, для разнообразия можно сломать ногу или заболеть холерой.
Мы выехали из Дамаска в полдень, часа два ехали по равнине, потом ненадолго остановились отдохнуть в тени фиговых деревьев. Кажется, никогда еще не было такой жары — солнечные стрелы разили землю, точно струи огня, бьющие из паяльной лампы; казалось, лучи ливнем обрушиваются на голову и скатываются вниз, точно дождевые потоки с крыши. Мне чудилось, будто я всем телом ощущаю удары солнечных лучей, — вот один обрушился мне на голову, скатился по плечам, и вот уже меня настигает другой. Это было ужасно. Пустыня сверкала и слепила, и глаза мои непрестанно слезились. У моих спутников были белые зонтики на плотной темно-зеленой подкладке. Это бесценное благо. Я благодарил судьбу, что и у меня есть такой зонтик; правда, он был запакован и вместе со всем багажом опередил нас на десять миль. Мне сказали в Бейруте (есть люди, которые любят пичкать других советами), что надо быть сумасшедшими, чтобы разъезжать по Сирии без зонтика. Поэтому я и купил себе зонтик.
Но, по совести, я думаю, что там, где нужно спасаться от солнца, зонтик только обуза. У арабской фески нет козырька, арабы не пользуются зонтиком и вообще ничем не защищают лицо и глаза и, однако, чувствуют себя на солнце как рыба в воде. Но никогда в жизни не видел я ничего смешнее нашего маленького каравана — уж очень нелепо выглядели мои спутники. Ехали они гуськом, шляпы у всех были обмотаны длиннейшими белыми константинопольскими шарфами, свисающими на спину, все были в зеленых, с боковыми стеклами, очках, у всех над головой белые зонтики на зеленой подкладке, у всех без исключения слишком короткие стремена — никудышная кавалькада, другой такой в целом свете не сыщешь; лошади все до единой движутся тихой рысью, и всадники тянутся друг за дружкой, глядя перед собой неподвижным взглядом и тяжело дыша; все высоко и не в лад подпрыгивают в седле, у всех затекли нелепо задранные колени, все машут локтями, точно петух, готовый закукарекать, и зонтики судорожно подскакивают над головами. Когда видишь средь бела дня это оскорбляющее глаз зрелище, поневоле спрашиваешь себя, почему боги не обрушили на эту безобразную кавалькаду громы небесные и не стерли ее с лица земли! Я смотрел и дивился. Будь моя воля, я бы не допустил, чтобы по моей земле разъезжали подобные караваны.
А когда солнце заходит и путники закрывают зонтики и засовывают их под мышку, картина только меняется, но не становится от этого менее нелепой.
Но, быть может, вы не понимаете, какой у нас дикий и несообразный вид. Окажись вы здесь, вы бы это поняли. Здесь вы все время чувствуете себя так, словно живете этак за тысячу двести лет до рождества Христова, или во времена патриархов, или чуть ближе к нашей эре. Вокруг нас библейские пейзажи, повсюду уклад жизни времен патриархов, те же люди в тех же развевающихся одеждах и сандалиях встречаются на вашем пути, те же нескончаемые вереницы величественных верблюдов проходят мимо, и, как в далекой древности, горы и пустыню объемлет та же молитвенная торжественность, то же безмолвие, — и вот в эту тишину и покой вторгаются шумливые янки в зеленых очках, с растопыренными локтями и подпрыгивающими зонтиками! Они здесь столь же к месту, как зеленый зонтик под мышкой у Даниила, брошенного на съедение львам[172].
Мой зонтик остался в багаже, зеленые очки тоже — там они и останутся. Я не стану ими пользоваться. Я проявлю хоть немного уважения к извечной гармонии, не стану сочетать несочетаемое. Достаточно неприятно будет получить солнечный удар, но незачем при этом еще выставлять себя на посмешище. Пусть я упаду, но по крайней мере я сохраню человеческий образ.
Часах в четырех езды от Дамаска мы миновали то место, где так внезапно был обращен Савл, и здесь обернулись назад и глядели на выжженную пустыню; и в последний раз мелькнул перед нами прекрасный Дамаск в зеленом блистающем уборе. С наступлением ночи для нас раскинули шатры на краю дрянной арабской деревушки Джонсборо. Разумеется, настоящее ее название Эль и как-то там дальше, но мои спутники все еще не желали понимать и произносить арабские названия. Говоря, что это самая заурядная деревушка, я имею в виду, что все сирийские селения в радиусе пятидесяти миль от Дамаска очень похожи одно на другое, — так похожи, что обыкновенному смертному не постичь, чем они разнятся между собой. В сирийском селении хижины тесно жмутся одна к другой, как соты в улье, они все одноэтажные (высотой в человеческий рост) и квадратные, как ящик из-под галантерейного товара; хижины, включая и плоскую крышу, обмазаны глиной и кое-как побелены. Одна и та же крыша часто простирается на полдеревни, покрывая множество «улиц», каждая из которых обычно не шире ярда. Когда в полдень въезжаешь в такую деревушку, первым делом натыкаешься на унылого пса, который поднимает голову и безмолвно просит не переехать его, но при этом и не думает посторониться; потом попадается навстречу нагой мальчишка, он протягивает руку и говорит: «Бакшиш!» — он, собственно, не рассчитывает получить монетку, но этому слову он выучился еще прежде, чем слову «мама», и теперь это стало неистребимой привычкой; потом встречаешь женщину, лицо ее закрыто черным покрывалом, а грудь обнажена; и наконец дети — дети с гноящимися глазами, хилые, всячески изувеченные; и тут же в пыли, прикрытый грязными лохмотьями, смиренно сидит жалкий калека, чьи руки и ноги искривлены и скрючены, как виноградная лоза. Пожалуй, больше никого и не встретишь. Остальные жители спят или пасут коз на равнинах и на склонах гор. Селение построено на берегу какой-нибудь чахоточной речушки, по берегам разрослась молодая, свежая зелень. А во все стороны от этого оазиса на многие мили тянутся одни пески и камень, поросшие кое-где серыми метелками, похожими на полынь. Зрелища более печального, чем сирийское селение, даже и вообразить невозможно, и окрестности его как нельзя более подходят к нему.
Я бы не стал вдаваться в подробное описание сирийских селений, если бы не то обстоятельство, что Нимрод, сильный зверолов, прославленный в Священном Писании, похоронен в Джонсборо, и я хотел бы, чтобы читатели знали это место. Его могилу, как и могилу Гомера, показывают в самых разных местах, но только здесь покоится подлинный, неподдельный прах Нимрода.
Больше четырех тысяч лет назад, когда племена, первоначально населявшие этот край, были рассеяны по всей земле, Нимрод со многими спутниками ушел миль за четыреста и поселился на том месте, где потом вырос великий город Вавилон. Нимрод построил этот город. Это он начал возводить знаменитую Вавилонскую башню[173], но ему не дано было ее достроить. Он возвел восемь ярусов, два из которых стоят и по сей день, — гигантская кирпичная кладка, рассевшаяся посредине от землетрясений, опаленная и наполовину расплавленная молниями разгневанного бога. Огромные развалины долго еще будут стоять как немой укор немощным строителям новых поколений. Они достались совам и львам, а старик Нимрод лежит всеми забытый в этой жалкой деревушке, вдали от мест, где он начал осуществлять свою грандиозную затею.
Ранним утром мы снялись с лагеря в Джонсборо. Мы ехали, ехали, ехали, томимые голодом и жаждой, и казалось, не будет конца этому пути по опаленной зноем пустыне и скалистым горам. Очень скоро в наших бурдюках не осталось ни капли воды. В полдень мы сделали привал неподалеку от жалкого арабского городишки Эль-Юба-Дам, примостившегося на склоне горы, но драгоман сказал, что, если мы спросим здесь воды, все племя нападет на нас, ибо здешние жители не любят христиан. Пришлось ехать дальше. Спустя два часа мы добрались до подножия одиноко стоявшей высокой горы, увенчанной разрушенным замком Баниас[174]; насколько нам известно, это самые величественные на свете развалины такого рода. Замок занимает тысячу футов в длину и двести в ширину, и каменная кладка его необыкновенно симметрична и притом невероятно массивна. Внушительные башни и бастионы поднимаются на тридцать футов, а прежде высота их достигала шестидесяти. Разбитые башенки, которые возвышаются над остроконечной горной вершиной среди дубовых и оливковых рощ, необычайно живописны. Замок этот столь древен, что никому не ведомо, когда он построен и кем. Он совершенно неприступен, лишь в одном месте горная тропа вьется среди огромных камней и взбирается вверх к старому подъемному мосту. За многие сотни лет, пока замок был обитаем и охранялся силой оружия, лошадиные копыта пробили в скалах ямки глубиной в шесть дюймов. Три часа бродили мы по залам, склепам, подземным темницам этой крепости, и ноги наши ступали там, где звенели кованые каблуки многих и многих крестоносцев и где задолго до них шагали герои Финикии.
Нам казалось, что даже землетрясению не поколебать этих могучих каменных стен; какие же силы могли превратить Баниас в развалины? Но немного погодя мы нашли разрушителя, и удивление наше возросло стократ. Семена залетели в расщелины массивных стен, проросли, нежные, тоненькие ростки окрепли, они росли и росли, и под неуловимым, но упрямым напором каменные глыбы раздались, и гигантское сооружение, которое устояло даже против землетрясений, теперь непоправимо разрушается. Узловатые, корявые деревья поднялись из всех щелей и украсили и затенили серые зубчатые стены буйной листвой.
С древних башен мы смотрели вниз, на широко раскинувшуюся зеленую равнину, поблескивающую озерками и ручьями, из которых берет начало священная река Иордан. После бесконечной пустыни картина эта радовала глаз.
Вечерело, и мы стали спускаться с горы через библейские дубравы Васана (тут мы наконец перешли границу и впервые ступили на вожделенную Святую Землю) и у самого ее подножья вошли в отвратительную деревушку Баниас на краю широкой долины и расположились лагерем в большой оливковой роще у пенящегося потока, берега которого окаймляли фиги, гранаты и олеандры в пышном зеленом уборе. Если бы не близость деревушки, гут был бы настоящий рай.
Когда добираешься до привала измученный жарой и весь в пыли, больше всего на свете жаждешь искупаться. Мы поднялись по ручью и ярдах в трехстах от шатров, там, где он низвергается с горы, окунулись в ледяную воду; не знай я, что это главный источник священной реки, я мог бы подумать, что ванна эта мне даром не пройдет. Ведь по словам доктора Б. Я заболел холерой оттого, что в полдень искупался в ключевой воде Аваны, реки дамасской; впрочем, у меня от всякого купанья начинается холера.
Наши неисправимые паломники опять натащили полные карманы разных обломков и осколков. Пора бы уже положить конец этому злу. Они отбивали кусочки от гробницы Ноя, от прекрасных статуй баальбекских храмов, от дома Иуды и Анании в Дамаске, с могилы Нимрода, сильного зверолова, с древних стен баниасского замка, на которых еще не совсем стерлись греческие и римские надписи, а теперь они дробят и терзают древние арки, на которые взирал сам Иисус во плоти. Да сохранит небо священную могилу, когда они нагрянут в Иерусалим.
Здешние руины ничем не примечательны. Тут сохранились массивные стены большого квадратного сооружеиия, которое было некогда крепостью; тут много древних тяжеловесных арок, которые почти совсем погребены под осколками, так что их едва видно; тут в толстостенной трубе по сей день стремит свои воды кристальный ручей, от которого берет начало Иордан; в склоне горы сохранился фундамент мраморного храма, построенного Иродом Великим[175], — еще можно увидеть обломки выложенного прекрасной мозаикой пола; тут диковинный каменный мост, возведенный, быть может, еще до Ирода; повсюду, на тропинках, и под деревьями, валяются коринфские капители, разбитые порфировые колонны и мелкие обломки статуй; и вон там, наверху, на краю обрыва, с которого низвергается поток, уже почти совсем стерлись греческие и римские надписи, прославляющие лесного бога Пана, которому некогда поклонялись греки, а за ними и римляне. Но теперь на развалинах разрослись кусты и деревья; жалкие хижины горсточки грязных арабов прилепились к обвалившимся древним стенам; глядя на это сонное, оцепеневшее захолустье, с трудом веришь, что некогда, пусть даже две тысячи лет назад, здесь был оживленный, прочно выстроенный город. И однако именно здесь произошло событие ставшее источником многих деяний, которым посвящены страницы и томы истории человечества. Здесь, на этом самом месте, Христос сказал Петру:
Ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою[176] и врата ада не одолеют ее;
и дам тебе ключи Царства Небесного; и что свяжешь на земле то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах.
На этих кратких изречениях покоится все могучее здание римской церкви; в них заложена основа безмерной власти пап над мирскими делами и их божественное право предать душу проклятию или очистить ее от греха. Стремясь удержать за собой положение «единственной истинной церкви», на которое притязает католичество, римская церковь воюет и трудится вот уже много столетий и не ослабит усилий до скончания века. Пожалуй, лишь благодаря этим памятным словам, приведенным мною, разрушенный город и по сей день возбуждает в людях интерес.
Странное это ощущение — стоять на земле, по которой некогда ступала нога Спасителя. Все здесь вызывает чувство подлинности и осязаемости, а ведь это никак не вяжется с той неопределенностью, тайной, нереальностью, которые обычно нераздельны с представлением о божестве. У меня все еще не укладывается в голове, что я сижу на том самом месте, где стоял Бог, гляжу на тот ручей и на те горы, на которые смотрел и он, и меня окружают смуглые мужчины и женщины, чьи предки видели его и даже разговаривали с ним запросто, как стали бы разговаривать с любым, самым обыкновенным чужестранцем. Непонятно мне это, — на мой взгляд, боги всегда были очень далеки от нас, грешных, и скрывались где-то в облаках.
Утром, когда мы завтракали, вдоль границы нашего лагеря, словно обведенного заколдованным кругом, как всегда, собрались бедняки, терпеливо ожидая крох, которые им, быть может, подадут, сжалившись над их убожеством и нищетой. Тут были старики и дети с коричневой и с желтой кожей. Среди мужчин есть рослые, крепкие (мало где увидишь таких силачей и красавцев, как на Востоке), но все женщины и дети старообразны, унылы, измучены голодом. Они напомнили мне индейцев. Они почти нагие, но их скудные одежды пестры и причудливы. Любое пустяковое украшение или побрякушку они пристраивают так, чтобы оно сразу же бросалось в глаза. Они сидели молча и с неистощимым упорством следили за каждым нашим движением, следили неотступно, как умеют одни только индейцы, — беззастенчиво и без жалоб; от этих взглядов белому становится не по себе, они будят в нем зверя, и он готов истребить все племя.
У этих людей есть и другие черты, которые я замечал у благородных краснокожих: на них кишат паразиты, и тела их покрыты корой запекшейся грязи.
Маленькие дети находятся в самом жалком состоянии — у всех гноятся глаза, и они страдают еще многими иными болезнями. Говорят, на всем Востоке не найти ребенка, который не страдал бы глазами, и каждый год тысячи детей слепнут на один, а то и на оба глаза. Я думаю, так оно и есть, потому что каждый день встречал множество слепых, и не помню, чтобы хоть раз видел ребенка со здоровыми глазами. Можете вы представить себе, чтобы в Америке женщина битый час держала своего ребенка на руках и не попыталась согнать тучи мух, облепивших его глаза? А здесь я это вижу каждый день. И всякий раз у меня кровь стынет в жилах. Вчера нам повстречалась женщина верхом на ослике, с младенцем на руках; издали мне показалось, что ребенок в очках, и я еще подумал, как эта женщина могла позволить себе такую роскошь. Но, подъехав ближе, мы увидели, что это не очки, а мухи, расположившиеся лагерем вокруг его глаз, а еще один отряд их производил разведку на носу. Мухи были в восторге, ребенок не протестовал, а потому и мать не вмешивалась.
Едва арабы прослышали, что среди нас есть врач, они стали стекаться к нам со всех сторон. Доктор Б. По доброте душевной взял ребенка у сидевшей неподалеку женщины и чем-то промыл его больные глаза. Женщина ушла и подняла на ноги всех своих соплеменников — и уж тут было на что посмотреть! Увечные, хромые, слепые, прокаженные — все немощи, порожденные ленью, грязью и беззаконием, — все были представлены на этом конгрессе, созванном в какие-нибудь десять минут, и народ все еще прибывал. Каждая женщина принесла больного младенца — если уж не своего, то соседского. Какие почтительные, благоговейные взоры обращали они к этой пугающей, таинственной силе — Доктору! Они следили, как он доставал свои склянки и пузырьки, как отсыпал белый порошок, как отмерял по капле одну драгоценную жидкость за другой, они не пропускали ни единого его движения, не сводили с него зачарованных глаз, и ничто не могло разрушить это очарование. Без сомнения, они верили, что он всемогуществом равен Богу. Когда они получали свою долю лекарств, глаза их сияли радостью, — хотя по натуре это народ неблагодарный и бесстрастный, — на каждом лице была написана непоколебимая вера, что нет на свете силы, которая помешала бы теперь больному исцелиться.
Христос знал, чем привлечь сердца этого простодушного, суеверного, терзаемого недугами народа: он исцелял страждущих. В это утро, когда по всей округе разнеслась весть о том, что наш доктор, простой смертный, помог больному ребенку, люди сбежались к лагерю, окружили доктора и глядели на него с благоговением, хотя еще не знали, будет ли толк от его снадобий. Их предки, которые ничуть не отличались от них ни цветом кожи, ни одеждой, ни обычаями и нравами, ни простодушием, толпами стекались к Христу, — и не диво, что, когда на глазах у них он единым словом исцелял страждущего, они стали поклоняться ему. Не диво, что молва о его деяниях передавалась из уст в уста. Не диво, если толпы, следовавшие за ним, были столь велики, что однажды — в тридцати милях отсюда — больного пришлось спустить в дом через крышу, ибо невозможно было пробиться к двери; не диво, что в Галилее несчетные толпы собрались послушать его и ему пришлось проповедовать с лодки, которая отошла от берега; не диво, что, даже когда он удалился в пустыню близ Вифсаиды, пять тысяч человек последовали за ним и нарушили его уединение; и если бы он не накормил их при помощи чуда[177], ему пришлось бы видеть, как они терпят голод из-за своей безграничной веры и преданности; не диво, что, когда в те дни в каком-либо городе начиналось волнение и сутолока, сосед объяснял соседу: «Говорят, пришел Иисус из Назарета!»
Итак, я уже сказал, что доктор оделял всех лекарствами до тех пор, пока было чем оделять, и он прославил себя этим по всей Галилее. Среди пациентов был и ребенок дочери шейха, ибо даже у этой горстки оборванных нищих, погрязших в болезнях и грехе, есть его величество шейх — жалкая старая мумия, которую естественней было бы увидать в богадельне, чем на посту верховного правителя этого племени несчастных, полуголых дикарей. Принцессе — я имею в виду дочь шейха — всего лет тринадцать-четырнадцать, у нее милое, хорошенькое личико. Это единственная из всех встреченных нами в Сирии женщин, которая не страшна как смертный грех, поэтому при виде ее праведник не осквернит бранью день субботний. Однако ребенок ее наводил на грустные размышления: бедняжка был ужасающе худ, кожа да кости, и смотрел па нас так жалобно, будто понимал, что если сейчас ему не посчастливится, то больше уж надеяться не на что; и все мы исполнились к нему самым искренним, неподдельным состраданием.
Но я слышу, что моя новая лошадь, видимо, решила сломать себе шею, натыкаясь на канаты, которыми закреплены наши шатры, и мне придется пойти ловить ее. С Иерихоном я распрощался. Новым конем тоже не очень-то похвастаешь. Одна задняя нога у него вихляет, а другая — прямая и негнущаяся, как жердь. Он почти совсем беззубый и слеп, как летучая мышь. Нос был когда-то перебит и теперь изогнут, как колено, нижняя губа отвисает, как у верблюда, уши коротко обрублены. Я не сразу подобрал ему имя, но в конце концов решил назвать его Баальбеком — за то, что он такая редкостная развалина. Я не могу не говорить о своих лошадях — ведь мне предстоит долгое, утомительное путешествие, и естественно, что я думаю о них почти столько же, сколько о вещах куда более значительных.
Мы ублаготворили наших паломников, проделав тяжкий путь от Баальбека до Дамаска, но лошади Дэна и Джека пришли в полную негодность, и надо было заменить их другими. Драгоман сказал, что лошадь Джека издохла. Я поменялся лошадьми с Магометом — царственного вида египтянином, адъютантом нашего Фергюсона. Фергюсоном я называю, разумеется, нашего драгомана Авраама. Я выбрал эту лошадь не потому, что она мне приглянулась, а потому, что не посмотрел на ее спину. Я не хочу видеть ее. Я видел спины всех остальных лошадей и заметил, что почти у всех они стерты и покрыты ужасными язвами, которые уже много лет никто не промывал и не смазывал. От одной мысли, что придется весь день подвергать лошадь этой немыслимой, мучительной пытке, становится тошно. Должно быть, моя лошадь ничем не отличается от остальных, но я хоть могу утешаться тем, что не знаю этого наверняка.
Надеюсь, что впредь я буду избавлен от восторгов и умилений по поводу арабов, которые будто бы боготворят своих лошадей. В детстве я мечтал быть арабом, жителем пустыни, владеть прекрасной кобылицей по имени Селим, Вениамин или Магомет, мечтал, что буду кормить ее из своих рук, и она будет заходить в шатер, и я научу ее тереться об меня и ласково глядеть на меня своими большими нежными глазами; и я воображал, как в такую минуту появится чужестранец и предложит мне за нее сто тысяч долларов, чтобы я мог поступить, как истый араб, — соблазненный деньгами, я буду колебаться, но любовь к моей кобылице возьмет верх, и я наконец скажу: «Расстаться с тобой, красавица моя? Никогда в жизни! Прочь, искуситель, я презираю твое золото!» — и тут же вскочу в седло и как ветер помчусь по пустыне!
И вот теперь я вспоминаю свои мечты. Если арабы, о которых я читал в книгах, похожи на здешних арабов — их любовь к прекрасным кобылицам обман. У тех, которых я знаю, нет любви к лошадям, нет ни капли жалости, и они не знают, как обращаться с лошадью, как заботиться о лей. В Сирии чепрак — это просто стеганая подстилка толщиной в два-три дюйма. Его никогда не снимают с лошади, ни днем, ни ночью. Он насквозь пропитан пóтом, грязен и облеплен шерстью. Он просто не может не разводить болячек. Этим разбойникам и в голову не приходит вымыть лошади спину. И в шатры лошадей не вводят, они остаются под открытым небом в любую погоду. Взгляните на моего Баальбека, на эту несчастную развалину с подрезанными ушами, и пожалейте о былых восторгах, которые вы попусту потратили на вымышленных Селимов!
Глава XIX. Дан. — Васан. — Геннисарет. — Обрывки истории. — Облик страны. — Бедуины-пастухи. — Бедуины мистера Граймса. — Поле битвы Иисуса Навина. — Битва Барака. — Запустение.
После часа езды по неровной, каменистой полузатопленной дороге и по васанским дубравам мы прибыли в Дан.
Здесь на невысоком пригорке берет начало широкий прозрачный ручей, у подножья он образует неглубокое озеро и потом устремляется по равнине бурным полноводным потоком. Это озерко — один из главных истоков Иордана. Берега его и берега ручья окаймлены цветущими олеандрами, но все же при виде этих невыразимых словами красот уравновешенный человек не станет биться в судорогах, как можно вообразить, начитавшись книг о путешествиях по Сирии.
Если с того места, о котором я говорю, выстрелить из пушки, ядро вылетит за пределы Святой Земли и упадет в трех милях от нее, на неосвященной почве. Всего час прошел, как мы перешли границу и оказались в Святой Земле, мы еще не успели проникнуться сознанием, что под ногами у нас совсем иная почва, чем та, к которой мы привыкли, а сколько исторических имен уже зазвучало вокруг! Дан, Васан, озеро Хула, истоки Иордана, море Галилейское[178]. Отсюда они видны все, кроме последнего, но и до него рукой подать. Деревушка Васан некогда была царством, которое славилось своими тельцами и дубами, как о том поведало нам Священное Писание. Озеро Хула — это и есть библейские воды Мером. Дан стоял на северной границе Палестины, а Вирсавия на южной — вот откуда пошло выражение «от Дана до Вирсавии». Это все равно что наше «от Мэна до Техаса» или «от Балтиморы до Сан-Франциско». И наше речение и израильское, оба означают одно и то же — большое расстояние. На медлительных верблюдах и ослах путешествие от Дана до Вирсавии — миль полтораста или немногим больше — отнимало семь дней, при этом израильтяне пересекали всю свою страну из конца в конец и пускались в путь только после долгих сборов и сложных приготовлений. Когда блудный сын отправился в «дальнюю сторону», похоже, что он ушел всего миль за девяносто, не больше. Ширина Палестины миль сорок, самое большее шестьдесят. Из штата Миссури можно нарезать три Палестины, и земли еще останется, а пожалуй, хватит и на всю четвертую. От Балтиморы до Сан-Франциско несколько тысяч миль, но через два-три года я смогу проделать это путешествие поездом за те же семь дней[179]. Если я буду жив, я непременно время от времени буду прибегать к услугам железной дороги, чтобы пересечь континент, но с меня вполне хватит одного путешествия от Дана до Вирсавии. Оно, вероятно, куда труднее. Итак, если мы услышим, что израильтянам расстояние от Дана до Вирсавии казалось огромным, не будем задирать нос, ибо это было и есть огромное расстояние, если к вашим услугам нет железной дороги.
На небольшом пригорке, о котором я уже упоминал, стоял некогда финикийский город Лэйш. Морские разбойники из Цоры и Эскола завладели им и жили там свободно и беспечно, поклоняясь богам собственного изделия, а когда они приходили в негодность, крали идолов у своих соседей. Иеровоам сделал золотого тельца[180], чтобы привлечь народ свой и удержать его от опасных поездок в Иерусалим, которые могли кончиться тем, что сердце народа вновь обратится к истинному государю. При всем моем почтении к древним израильтянам я не могу не заметить, что они не всегда были столь добродетельны, чтобы устоять перед соблазном золотого тельца. Человеческая природа мало изменилась с тех пор.
Веков сорок тому назад арабские цари из Месопотамии разграбили город Содом и среди прочих пленников захватили патриарха Лота; они повели его в свои владения, а по дороге завернули в Дан. Они привели его сюда, и Авраам, который преследовал их, темной ночью неслышно прокрался меж шелестящих олеандров, скрываясь в тени величавых дубов, напал на спящих победителей и лязгом мечей пробудил их от сна. Он отнял у арабов Лота и всю прочую добычу.
Мы продолжали путь. Теперь мы ехали зеленой долиной, миль шести в ширину и пятнадцати в длину. Ручьи, которые считаются истоками Иордана, текут по ней и вливаются в озеро Хула; оно неглубокое, трех миль в поперечнике, и в южном конце его берет начало река Иордан. Озеро окружено обширной топью, поросшей тростником. Между топью и стеной гор лежит довольно широкая полоса плодородной земли; на краю долины, со стороны Дана, топь отступает, и добрая половина земли плодородна и орошается истоками Иордана. Земли здесь вполне хватило бы для одной фермы. Это почти оправдывает восторги тех соглядатаев, которые привели неутомимых искателей приключений в Дан. Они сказали: «Мы видели землю, и она прекрасна. Нет здесь недостатка ни в чем, и все там есть, чем богата земля».
Их восторги оправданы хотя бы тем, что они никогда еще не видали такого благодатного края. Земля эта вполне могла прокормить шестьсот мужчин вместе с их семьями.
Когда мы спустились на равнинную часть фермы, оказалось, что здесь можно пустить лошадей рысью. Это выдающееся событие.
День за днем мы мучительно карабкались по бесконечным горам и скалам, и когда вдруг выехали на эту изумительную, совершенно ровную дорогу, каждый вонзил шпоры в бока своей лошади и поскакал с такой скоростью, о какой можно было только мечтать и какая в Сирии казалась совершенно недостижимой.
Местами земля здесь возделана; акр-другой плодородной почвы, на которой кое-где торчат сухие, не толще пальца, прошлогодние стебли кукурузы, — редкая картина в этой стране. Но в такой стране — это волнующее зрелище. Неподалеку бежит ручей, и на его берегах стадо овец и забавных сирийских коз с наслаждением уплетает гравий. Я не поручусь, что так оно и было на самом деле, — я лишь предполагаю, что они ели гравий, потому что больше там есть было нечего. Пастухи были точной копией Иосифа и его братьев[181]; на этот счет у меня нет никаких сомнений. Это рослые, мускулистые бедуины с очень темной кожей и иссиня-черными бородами. У них сурово сжатые губы, бесстрашные глаза, и движения их царственно величавы. Они носят не то чепцы, не то капюшоны — пестрые, с длинными, падающими на плечи, бахромчатыми концами, и просторные развевающиеся одежды в широкую черную полоску — наряд, который видишь на любой картинке, изображающей смуглых сынов пустыни. Я думаю, что, представься им случай, эти пастухи тоже продали бы своих младших братьев. У них та же осанка и одежда, те же обычаи и занятие и та же беззаботность в вопросах морали, что у их предков. (Прошлой ночью они напали на наш лагерь, и я не питаю к ним добрых чувств.) Ослы у них карликовые, таких повсюду встречаешь в Сирии и помнишь по всем картинам, изображающим «Бегство в Египет»[182], где Мария с младенцем едет на осле, а Иосиф идет рядом, огромный по сравнению с крохотным животным.
Но на самом деле здесь, как правило, мужчина едет с ребенком на руках, а женщина идет пешком. Со времен Иосифа нравы не изменились. Мы бы не стали держать у себя в доме картину, на которой Иосиф ехал бы, а Мария шла пешком; для нас это было бы кощунством, а для сирийских христиан — нет. И впредь картина, о которой я только что говорил, всегда будет казаться мне несколько странной.
Мы снялись с лагеря всего каких-нибудь два-три часа назад, поэтому нам, конечно, рано еще было останавливаться на привал, хотя рядом и был ручей. Пришлось еще час оставаться в седле. Мы опять увидели воду, но нигде во всей этой пустыне нет ни клочка тени, а солнце жгло немилосердно. «Как в тени большой скалы на истомленной земле». Нет в Библии слов прекрасней, и, наверно, еще никогда и нигде за время наших странствий не трогали они нас так, как в этой сожженной солнцем, голой, без единого деревца, земле.
Здесь делают привал не когда хотят, а когда это возможно. Мы нашли воду, но там не было тени. Поехали дальше и нашли наконец дерево, но там не было воды. Мы отдохнули, позавтракали и вот приехали сюда, в Айн Мелах. (Мои спутники назвали его Болдуинсвиллом.) Дневной переход на сей раз был очень короткий, но драгоман не желает ехать дальше и изобрел вполне правдоподобную ложь о свирепых арабах, которыми кишмя кишат все окрестности, и поэтому ночлег за пределами Айн Мелаха слишком опасное времяпрепровождение. Что ж, эти арабы, видимо, и в самом деле опасны. Они вооружены заржавленными, много на своем веку повидавшими кремневыми ружьями с длинным, в человеческий рост, стволом без прицела, и пуля его летит не дальше брошенного рукою камня и разит куда менее верно. За пояс, — а поясом им служит обернутый несколько раз вокруг талии широкий шарф, — у них заткнуты два-три огромных пистолета, никогда не бывших в употреблении и заржавевших; такое оружие будет давать осечку до тех пор, пока вы не окажетесь вне пределов досягаемости, а потом взорвется, и тогда прощайся араб с головой. Они очень, очень опасны, эти сыны пустыни.
Прежде, когда я читал о том, как Вильяму Граймсу едва-едва удавалось ускользнуть от бедуинов, у меня кровь стыла в жилах, но если мне снова придется читать об этом, я и бровью не поведу. По-моему, он ни разу не говорит, что бедуины напали на него или хотя бы неучтиво обращались с ним, но чуть ли не в каждой главе они приближаются к нему, и у него особый дар так расписывать опасности, что у читателя волосы становятся дыбом; и спрашивать себя, каково было бы его родным, если бы они видели, какая страшная угроза нависла над их бедным мальчиком, измученным скитаньями, с затуманенным усталостью взором; и вспоминать в последний раз отчий дом, и милую старую церковь, и корову, и все прочее; и наконец, выпрямившись во весь рост в седле и расправив плечи, выхватить свой верный пистолет, дать шпоры «Магомету» и ринуться на свирепого врага с твердым решением дорого продать свою жизнь. Правда, когда уж он съезжался с бедуинами, они ни разу ему ничего худого не сделали и даже не собирались никогда, — и только диву давались, чего он так распетушился; а все же я всякий раз не мог отделаться от мысли, что лишь отчаянная храбрость спасла его от гибели; и потому, почитав на сон грядущий о бедуинах Вильяма Граймса, я никогда не мог спать спокойно. Но теперь я знаю, что эти его бедуины — чистейший обман. Я видел чудовище, и теперь оно мне не страшно. Нет, у него никогда не хватит смелости пустить в ход свое допотопное оружие.
Примерно за полторы тысячи лет до рождества Христова на том месте, где мы сейчас раскинули лагерь, у вод Меромских, разыгралось одно из самых жарких сражений Иисуса Навина. Иавин, царь Асорский (царство его находилось по ту сторону Дана), созвал всех соседних шейхов с их ополчением, чтобы сразиться с грозным израильским полководцем, который шел на них войной.
И собрались все цари сии, и пришли, и расположились станом вместе при водах Меромских, чтобы сразиться с Израилем.
И выступили они, и все ополчение их с ними, многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском.
Но Иисус напал на них и перебил всех до единого. Таков был его метод ведения войны. Он никогда не давал газетам возможности поспорить о том, кто же выиграл битву. Эту долину, столь мирную сегодня, он обратил в дымящуюся бойню.
Где-то в этих краях — не знаю в точности где — лет через сотню израильтяне вступили в еще одно кровопролитное сражение. Пророчица Девора повелела Бараку взять десять тысяч воинов и выступить против другого царя Иавина, который в чем-то провинился. Варак сошел с горы Фавор, милях в двадцати пяти отсюда, и дал бой войску Иавина, которым командовал Сисара. Варак выиграл битву и, чтобы сделать победу полной, истреблял, как тогда было принято, остатки ополчения, а тем временем Сисара убежал пеший; измученный усталостью и жаждой, он едва держался на ногах, и некая Иаиль, женщина, с которой он, видимо, был знаком, пригласила его отдохнуть в ее шатре. Усталый воин охотно принял приглашение, и Иаиль уложила его в постель. Он сказал, что изнывает от жажды, и попросил у своей великодушной спасительницы испить воды. Она принесла ему молока, он отпил с благодарностью и снова лег, чтобы забыться сном и не вспоминать о проигранном сражении и униженной гордости. Едва он уснул, Иаиль взяла молот и кол от шатра, тихонько подошла к нему и пробила ему череп!
«...а он спал от усталости — и умер». Так трогательно просто сказано в Библии. Ликующая «Песнь о Деворе и Вараке» восхваляет Иаиль за ее памятное деяние.
Да будет благословенна между женами Иаиль, жена Ховера Кенеянина, между женами в шатрах да будет благословенна.
Воды просил он; молока подала она, в чаше вельможеской принесла молока лучшего.
(Левую) руку свою протянула к колу, а правую свою к молоту работников; ударила Сисару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его.
К ногам ее склонился, пал и лежал; к ногам ее склонился, пал; где склонился, там и пал сраженный.
Теперь уже в этой долине не увидишь подобных волнующих сцен. В какую сторону ни пойдешь, на тридцать миль вокруг не встретишь хотя бы одинокой деревушки. В двух-трех местах жмутся друг к другу шатры бедуинов, но оседлых жителей тут нет. Здесь можно проехать десять миль, не встретив и десяти человек.
К этому краю вполне подходят слова одного из пророков:
Я опустошу землю твою; и враги твои, живущие на ней, изумятся. И рассею народ твой среди язычников, и обращу меч на тебя; и земля твоя будет пустыней, и города твои опустеют
Стоя здесь, у опустевшего Айн Мелаха, никто не осмелится сказать, что пророчество не исполнилось.
В библейском стихе, который я привел выше, есть слова: «все цари сии». Они сразу же привлекли мое внимание, потому что здесь я воспринял их совсем иначе, чем дома. Теперь мне уже совершенно ясно, что если я хочу извлечь пользу из этого путешествия и составить себе правильное представление обо всем том, с чем мы здесь сталкиваемся, мне придется накрепко забыть очень многое из того, что я знал о Палестине прежде. Мне придется прибегнуть к методу сокращения. Подобно кисти винограда, которую соглядатаи принесли из земли обетованной, все палестинское виделось мне в слишком большом масштабе. Некоторые мои представления были довольно дики. Слово «Палестина» будило в моем воображении смутный образ страны, такой же огромной, как Соединенные Штаты. Почему — не знаю, но так уж оно было. Скорее всего, у меня просто не укладывалось в голове, что у маленькой страны может быть столь богатая событиями история. Признаться, я был несколько удивлен, убедившись, что великий турецкий султан не выше простого смертного. Надо постараться свести мои представления о Палестине к более скромным размерам. Иной раз всю жизнь не можешь отделаться от впечатлений, полученных в детстве. «Все цари сии». Когда я читал эти слова в воскресной школе, я мысленно видел торжественную процессию монархов таких стран, как, скажем, Англия, Франция, Испания, Германия, Россия и т. п., в пышных одеждах, на которых горят и переливаются драгоценные каменья; в руках у них золотые скипетры, а на головах сверкающие короны. Но здесь, в Айн Мелахе, после того как мы проехали по Сирии и основательно изучили особенности и обычаи этой страны, слова «все цари сии» утратили свое величие. Теперь я знаю, что это лишь горсточка мелких царьков, полуголых и полуголодных дикарей вроде наших индейских племен, которые жили на виду друг у друга и чьи «царства» считались большими, если они занимали пять квадратных миль и насчитывали две тысячи душ. Монархии тридцати «царей», уничтоженные Иисусом Навином во время одного из его знаменитых походов, все вместе равнялись по величине примерно четырем нашим средним округам. Жалкий старый шейх, которого мы видели в Кесарии вместе с сотней его ободранных приближенных, в те далекие времена тоже именовался бы «царем».
Семь утра. И так как мы на лоне природы, траве полагалось бы сверкать росой, цветам разливать в воздухе благоухание и птицам щебетать среди ветвей. Но — увы! — здесь нет ни росы, ни цветов, ни птиц, ни деревьев. Здесь лишь равнина, палимое солнцем озеро и за ним голые скалы. Шатры свернуты, арабы, по обыкновению, яростно грызутся между собой, повсюду валяются свертки и узлы, их поспешно вьючат на мулов, лошади оседланы, зонтики наготове — через десять минут мы сядем на коней и вновь двинемся в путь. Белый город Мелах, на краткий миг воскресший из мертвых, вновь исчезнет без следа.
Глава XX. Приключение Джека. — История Иосифа. — Священное озеро Геннисарет. — Восторги паломников. — Почему мы не пустились в плавание по морю Галилейскому. — Капернаум. — Поездка в Магдалу.
Несколько миль мы ехали по унылым местам, — почва довольно плодородная, но заросла сорными травами, — по безмолвным, мрачным просторам, где мы встретили только трех человек: трех арабов, одетых в одни лишь длинные грубые рубахи вроде той дерюги, которая не так давно служила единственным одеянием негритянских мальчишек на плантациях Юга. То были пастухи, и они повелевали своими стадами при помощи классической пастушьей свирели — тростниковой дудочки, издающей поистине адские звуки, под стать арабскому пению.
В их свирелях не слышно даже слабого отголоска той дивной музыки, какую слыхали предки пастухов на равнинах Вифлеема, когда ангелы пели «Мир на земле и в человецех благоволение».
Земля, по которой мы ехали, зачастую и не земля вовсе, а камень — желтоватый, гладкий, словно отполированный водой; редко увидишь острый край или угол, он ноздреват, источен, весь во впадинах, придающих ему какую-нибудь странную, неожиданную форму, и зачастую походит на череп. Здесь кое-где еще сохранились остатки древней римской дороги, напоминающей Аппиеву дорогу, и плиты ее держатся за свое место с истинно римским упорством.
Серые ящерицы, законные наследницы руин, гробниц и всяческого запустения, скользят там и сям среди камней или мирно греются на солнце. Всюду, где процветание сменилось упадком, где слава вспыхнула и погасла, где красота обитала и исчезла, где на смену радости пришла скорбь, где жизнь била ключом, а теперь воцарились тишина и смерть, — всюду поселяются ящерицы и глумятся над суетой сует. Наряд ящерицы цвета пепла, а пепел — символ несбывшихся надежд, неосуществленных желаний, погибшей любви. Если бы она обладала даром речи, она сказала бы: «Возводи храмы — я буду владыкой их развалин; возводи дворцы — я поселюсь в них; создавай империи — я наследую их; хорони своих красавиц — я увижу, как трудятся могильные черви; и ты, что стоишь здесь и рассуждаешь обо мне, — я еще когда-нибудь поползу по твоему трупу».
В этом пустынном месте мы увидели и муравьев, они проводят здесь лето. Провизию они доставляют из Айн Мелаха, за одиннадцать миль отсюда.
Джеку сегодня нездоровится, это сразу видно, но он настоящий мужчина, хоть и юнец, и не говорит о подобных пустяках. Вчера он слишком долго пробыл на солнце, но так как причиной тому была любознательность и желание извлечь из нашего путешествия как можно больше пользы, никто не говорит ему: «Сам виноват». Мы хватились, что его уже целый час нет в лагере, и потом отыскали неподалеку у ручья; он не взял с собой зонтика, и ничто не защищало его от жгучего солнца. Если бы он привык обходиться без зонтика, все сошло бы благополучно, но он к этому не привык. Когда мы подошли, он как раз собирался кинуть камень в черепаху, которая грелась на коряге посреди ручья.
— Не надо, Джек, — сказали мы. — За что вы ее? Что она вам сделала?
— Ладно, я ее не убью; а следовало бы, ведь она обманщица.
Мы спросили — почему, но он ответил, что это не важно. По дороге к лагерю мы еще раз спросили его и еще, но он снова ответил, что это не важно. Поздним вечером, когда он, задумавшись, сидел у себя на постели, мы задали ему все тот же вопрос, и он сказал:
— Да это не важно. Теперь уж мне все равно, но, понимаете, днем мне это не понравилось; ведь я сам никогда ничего не выдумываю, и, по-моему, полковнику тоже не следовало бы. А он выдумывает. Вчера вечером во время молитвы в шатре паломников он сказал — и похоже даже было, что он читает по Библии, — что в этой стране реки текут млеком и медом и что здесь можно услышать голос черепахи[183]. Я подумал, что насчет черепахи это, пожалуй, уж слишком, но потом я спросил мистера Черча, правда ли это, и он сказал, что правда; а если уж мистер Черч говорит, я ему верю. Но вот сегодня я добрый час сидел и наблюдал за черепахой и совсем изжарился на солнце, а она так ни разу и не запела. С меня сошло семь потов, честное слово не меньше, пот заливал мне глаза и капал с носа; и вы же знаете, штаны у меня узкие, как ни у кого, — все эта глупая парижская мода, — да еще подшиты оленьей кожей, так они пропотели насквозь, а потом высохли и стали коробиться, и жали, и натирали — это была просто пытка, — а черепаха так и не запела. Наконец я сказал себе: это обман, вот что это такое, самый настоящий обман; и будь у меня хоть капля здравого смысла, я бы знал, что черепахи не поют. И тогда я решил: будем справедливы к этой особе, дадим ей десять минут сроку, а уж если и через десять минут она не запоет — ей не уцелеть. И все-таки она не запела. Я все сидел и ждал, а вдруг она вот-вот запоет, потому что она поминутно то поднимала, то опускала голову, то закрывала глаза, то опять открывала, как будто старалась выучить какую-то песню наизусть, но как раз когда десять минут прошли и я совсем уже измучился и испекся, эта проклятая черепаха положила голову на бугорок и заснула крепким сном.
— Да, это, пожалуй, и вправду неприятно, ведь вы так долго прождали.
— Вот и я так думаю. Тут я сказал: «Ладно, не хочешь петь — не надо! Но и спать тебе тоже не удастся». И если бы вы не помешали, я заставил бы ее убраться из Галилеи с такой скоростью, о какой ни одна черепаха и мечтать не могла. Но теперь все это уже не важно, Бог с ней. У меня сзади на шее вся кожа слезла.
Часов в десять утра мы остановились у рва Иосифа. Это разрушенный средневековый караван-сарай, в одном из боковых дворов которого мы увидели глубокий, обнесенный стенами и крытый сводом ров, наполненный водой; предание гласит, что в этот самый ров бросили Иосифа его братья. Более достоверное предание, опирающееся на географию страны, утверждает, что знаменитый ров находится в Дофане, примерно в двух днях пути отсюда. Как бы там ни было, раз многие верят, что это и есть настоящий ров, на него любопытно поглядеть.
Трудно выбрать самое прекрасное место в книге, столь богатой прекрасными страницами, как Библия, но даже под этим переплетом не много есть таких, которые могут сравниться с волнующей повестью об Иосифе. Кто научил этих древних авторов простоте слога, меткости выражений, пафосу, а главное — этому дару оставаться в тени: рассказывать обо всем так, что повествование течет словно само собою и само за себя говорит? Шекспир всегда присутствует в своих сочинениях, и следуя за величавой поступью периодов Маколея, тоже ощущаешь его присутствие, но создатели Ветхого завета невидимы глазу.
Если ров, о котором я говорил, подлинный, значит здесь много веков назад случилось то, что всем нам знакомо по картинкам. Неподалеку отсюда сыновья Иакова пасли свои стада. Отец, встревоженный их долгой отлучкой, послал Иосифа, своего любимца, поглядеть — не случилось ли с ними чего. Иосиф провел в пути шесть или семь дней; он шел по этой земле, самой унылой, каменистой и пыльной во всей Азии; ему было всего семнадцать лет, и он, как мальчишка, гордился своим пестрым фраком. Иосиф был любимец отца, и в глазах братьев это было его первое преступление; он видел сны и говорил, будто они предвещают, что в далеком будущем он возвысится над всей своей семьей, — и это было второе его преступление; к тому же у него была красивая одежда, и уж наверно он простодушно тешил свое юношеское тщеславие, не скрывая от братьев своей радости. Таковы были его преступления, и злобные братья сговорились примерно наказать его, как только представится случай. Когда он шел к ним от моря Галилейского, они увидели его и обрадовались. «Вот идет сновидец, — сказали они, — убьем его». Рувим просил их не убивать Иосифа, и они пощадили его жизнь, но схватили его, сорвали с него ненавистную одежду и бросили его в ров. Старшие братья намеревались оставить его там, и конечно он бы умер, а Рувим решил тайком освободить его. Но Рувим ненадолго отлучился, а братья тем временем продали Иосифа измаильтянским купцам, которые направлялись в Египет. Такова история рва. И вот этот самый ров сохранился на этом месте по сей день, и он останется здесь до тех пор, пока с «Квакер-Сити» сюда не нагрянет очередной отряд губителей статуй и осквернителей могил, которые уж наверняка выкопают весь этот ров и увезут с собой, — ибо нет в них уважения к священным памятникам старины, и куда бы они ни пришли, они все разрушают и ничего не щадят.
Иосиф стал человеком богатым, почитаемым, могущественным, «начальствующим над всей землею Египетской», как говорится в Библии. Иосиф был настоящим царем в Египте, он был силой и мозгом монархии, хотя титул и оставался за фараоном. Иосиф один из подлинно великих мужей Ветхого завета. И он был самый благородный и самый мужественный из всех, кроме разве Исава. Почему не сказать доброго слова об этом царственном бедуине? Одно только можно поставить ему в вину — он был неудачник. Почему все должны безмерно восхвалять Иосифа за великодушие и щедрость к его жестоким братьям и кидать лишь жалкую кость похвалы Исаву за его куда большее великодушие к ограбившему его брату?
Воспользовавшись тем, что Исав отчаянно проголодался, Иаков украл у него первородство и великую честь и уважение, которые принадлежали тому по праву; обманом и вероломством он украл у Исава отцовское благословение; по его вине Исав стал чужим в отчем доме и ушел бродить по свету. Но спустя двадцать лет Иаков повстречал Исава и, дрожа от страха, пал к его ногам и жалобно умолял брата избавить его от заслуженного наказания. И как же поступил этот великолепный дикарь? Он кинулся на шею Иакова и обнял его! И когда Иаков, который не способен был понять благородную душу, все еще полный страха и сомнений, «дабы приобрести благоволение в очах господина моего», хотел подкупить Исава, отдав ему в дар свое стадо, что ответил этот великодушный сын пустыни?
«У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя!»
Когда они встретились, Иаков был богат, любим женами и детьми и путешествовал с помпой, окруженный слугами, многочисленными стадами и караванами верблюдов, а Исав так и остался бездомным изгнанником, каким он стал по милости брата.
Прошло тринадцать лет, полных чудес, и братья, которые продали Иосифа, голодные и униженные, пришли чужаками в чужую землю купить «немного пищи», а когда их обвинили в краже и призвали во дворец, они узнали в его владельце Иосифа; братья были полны страха: они нищие, а он владыка могущественной империи! Найдется ли на свете человек, который не воспользовался бы таким подходящим случаем сделать широкий жест? Кто же больше достоин восхищения — изгнанник Исав, простивший процветающего Иакова, или же Иосиф, простивший дрожащих оборванцев, удачному злодейству которых он обязан был своим высоким саном?
Перед тем как подойти ко рву Иосифа, мы взобрались на гору, и, не заслоненная ни деревцем, ни кустиком, нам открылась картина, увидеть которую мечтают миллионы верующих во всех концах мира и готовы отдать за это половину всего, что имеют, — в нескольких милях впереди лежало священное море Галилейское!
Вот почему мы не стали мешкать у рва Иосифа. Мы отдохнули сами и дали отдых лошадям и несколько минут наслаждались благословенной тенью древних строений. Вода у нас вся вышла, и два хмурых араба, которые слонялись неподалеку со своими длинными ружьями, сказали, что ни у них, ни где-либо поблизости воды нет. Они знали, что немного солоноватой воды есть во рву, но слишком чтили это священное место, служившее темницей их предку, и не желали, чтобы из него пили христианские собаки. Но Фергюсон связал несколько тряпок и носовых платков и сделал из них веревку, достаточную для того, чтобы можно было кувшином зачерпнуть воды, и мы напились и поехали дальше и вскоре спешились на тех берегах, которые стали священными, ибо по ним ступала нога Спасителя.
В полдень мы искупались в море Галилейском — истинное благо в этом пекле — и потом позавтракали под старым одичавшим фиговым деревом у источника Эйн-э-Тин, в сотне ярдов от развалин Капернаума. Любой ручеек, журчащий меж скал и песков, в этом краю нарекают высоким званием источника, и людей, живущих на берегах Гудзона, Великих озер и Миссисипи, охватывает безмерный восторг, едва они завидят эти «источники», и они пускают в ход все свое умение и мастерство, чтобы излить свою хвалу на бумагу. Если бы собрать воедино все стихи и весь вздор, посвященный здешним источникам и окрестным пейзажам, получился бы солидный том — неоценимая растопка для печи.
Наши энтузиасты паломники, которые себя не помнили от радости с тех пор, как ступили на священную землю, во время завтрака только и могли бормотать какие-то несвязные слова, кусок не лез им в горло — так им не терпелось самолично пуститься в плавание по морю, которое носило на своих волнах лодки апостолов. С каждой минутой нетерпение их росло, и наконец меня стал одолевать страх: я опасался, что они, пожалуй, храбро махнут рукой на благоразумие и осмотрительность и закупят целый флот, вместо того чтобы нанять одну посудину на час, как делают все рассудительные люди. Я трепетал при одной мысли о том, как эта затея опустошит наши кошельки. Видя, с каким пылом люди средних лет готовы предаться неразумной прихоти, прельстившей их своей новизной, я не мог не думать о печальных последствиях. И однако удивляться тут было нечего. С самого младенчества этих людей учили чтить, даже боготворить святые места, которые предстали ныне их счастливым взорам. Долгие, долгие годы эта картина мерещилась им среди бела дня и являлась им по ночам во сне. Стоять здесь, видеть все это своими глазами, плыть по этим священным водам, лобызать благословенную землю, простершуюся вокруг, — они лелеяли эту мечту, а годы уходили один за другим и оставляли неизгладимые следы на их лицах и иней в волосах. Дабы увидеть эту землю, плыть по этим волнам, они покинули дом и близких и проехали многие тысячи миль, и трудности и лишения не остановили их. Удивительно ли, что убогий свет будничного благоразумия померк перед ослепительным сиянием их осуществленной мечты? Пусть сорят миллионами, решил я, кто думает о деньгах в такую минуту!
В таком настроении я поспешил вдогонку за нашими нетерпеливыми паломниками и, стоя на берегу озера, вместе с ними стал изо всех сил кричать и махать шляпой, чтобы привлечь внимание проходившего мимо «корабля». Наши старания увенчались успехом. Труженики моря повернули и пристали к берегу. По всем лицам разлилась радость.
— Сколько?.. Фергюсон, спроси его — сколько?.. Сколько за всех — нас восемь и ты... до Вифсаиды и вон туда к устью Иордана, и до того места, с которого свиньи кинулись в море[184]... скорей... И мы хотим проплыть вдоль всех берегов, всех!.. На весь день!.. Я готов целый год плавать по этим водам!.. И скажи, что мы остановимся в Магдале и высадимся в Тивериаде! Сколько он хочет? Да все равно... сколько бы ни спросил... скажи, за ценой дело не станет! («Так и знал», — подумал я.)
Фергюсон (переводит). Он говорит, два наполеондора — восемь долларов.
На одном-двух лицах сияние гаснет. Пауза.
— Слишком дорого, хватит и одного!
Я так никогда и не узнаю, как это случилось, — меня и сейчас бросает в дрожь при одной мысли о том, как легко здесь совершаются чудеса: в мгновение ока «корабль» оказался уже за двадцать шагов от берега и убегал, точно объятый страхом! А восемь несчастных стоят на берегу — подумайте только! Такой удар... такой удар... после столь исступленного восторга! Позор, какой позор после столь бесстыдной похвальбы! Это совсем как в драке: «Пустите меня, я ему покажу!» И тотчас благоразумное: «Вы двое держи те его, а меня и один удержит».
И разом в нашем лагере поднялись вопли и скрежет зубовный. Предлагали два наполеондора, даже больше, если надо, паломники и драгоман кричали до хрипоты, умоляя удаляющихся лодочников вернуться. Но те преспокойно уходили прочь и не обращали ни малейшего внимания на паломников, которые всю свою жизнь мечтали о том дне, когда они будут скользить по священным водам галилейским и в шепоте волн слышать божественную повесть; ради этого они одолели тысячи и тысячи миль — и в конце концов решили, что плавание обойдется слишком дорого? Дерзкие магометане! Подумать так о благородных поборниках иной веры!
Что делать, нам оставалось лишь покориться и отказаться от чести проехаться по Теннисаретскому озеру, хоть ради этого удовольствия мы и объехали полмира. Во времена, когда здесь учил Спаситель, у прибрежных рыбаков не было недостатка в лодках, но теперь не осталось ни рыбаков, ни лодок; восемнадцать веков назад старик Флавий[185] держал здесь военный флот — сто тридцать бесстрашных челнов, но и они исчезли, не оставив следа. Здесь теперь не бывает морских сражений, а торговый флот моря Галилейского состоит всего из двух яликов, не крупнее тех лодок, на каких рыбачили еще апостолы. Одна навсегда потеряна для нас, до другой многие мили, ее не докличешься. Итак, хмурые и недовольные, мы сели на лошадей и легким галопом двинулись вдоль берега к Магдале, потому что переплыть море нам было не на чем.
Как поносили друг друга паломники! Каждый сваливал вину на другого, и каждый отрицал ее. А мы, грешные, не проронили ни слова: в такой час даже самая безобидная шутка опасна. Грешники, которых с самого начала держали в строгости, и наставляли брать пример с людей добродетельных, и донимали нравоучениями, которым непрестанно читали мораль о пользе осмотрительности, о вреде легкомыслия и сквернословия и которым с утра до ночи твердили о том, как важно быть праведным и добропорядочным всегда и во всем, так что под конец жизнь стала им в тягость, — эти самые грешники не приотстали от паломников в этот горький час, и не перемигивались украдкой, и не радовались их беде; ни в чем таком они не повинны, — просто потому что это не пришло им в голову. Иначе они непременно совершили бы все эти преступления. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мы совсем этого не делали, — мы несомненно с удовольствием слушали, как паломники поносят друг друга. Мы вообще всегда испытывали недостойную радость, когда они перебранивались, ибо это доказывало, что в конце концов они всего лишь такие же простые смертные, как и мы.
Итак, мы ехали в Магдалу, и скрежет зубовный то нарастал, то становился едва слышным, и гневные речи тревожили священный покой Галилеи.
Да не подумает кто, что я со зла наговариваю на наших паломников, прошу поверить, что это не так. Я бы не стал выслушивать наставления от людей, которых не люблю и не уважаю, а ведь ни один из паломников не может сказать, что я обижался, или проявлял строптивость, или не старался извлечь пользы из их поучений. Они лучше меня, я говорю это от души, они мои добрые знакомые; и притом, если они не желали, чтобы время от времени их имена попадали в печать, зачем они отправились путешествовать со мной? Они знали меня. Знали, что я человек без предрассудков и люблю свободный обмен мнениями — при условии, чтобы я говорил, а другие слушали. Когда один из них грозился оставить меня, заболевшего холерой, в Дамаске, он на самом деле не собирался этого сделать, — я знаю, он человек горячий, но за его вспыльчивостью всегда кроются добрые побуждения. И разве я не подслушал случайно, как другой паломник, Черч, сказал, что ему дела нет, кто уедет и кто останется, он-то непременно останется со мной, пока я не выйду из Дамаска на своих ногах или ногами вперед, даже если ему придется просидеть здесь целый год? И разве я хоть раз обошел молчанием Черча, когда поносил паломников, и неужели я способен говорить о нем со злым чувством? Я лишь хочу дать им небольшую встряску, это полезно для здоровья.
Капернаум остался позади. Это всего лишь бесформенные развалины. Ничто здесь не напоминает город, и даже намека нет, что он когда-то стоял здесь. Но и всеми покинутая, безлюдная, земля эта все равно овеяна славой. Здесь поднялось древо христианства, могучие ветви которого ныне осеняют многие дальние страны. Устояв перед искушениями дьявола в пустыне, Христос пришел сюда и начал проповедовать; и те три или четыре года, что он жил после этого, здесь был его дом. Он стал исцелять больных, и скоро слава о нем разнеслась столь далеко, что страждущие приходили со всей Сирии, и из-за реки Иордан, и даже из Иерусалима, до которого несколько дней пути, в надежде на исцеление от своих недугов. Здесь исцелил он слугу сотника, и тещу Петра, и множество хромых и слепых и одержимых бесами, и здесь он воскресил дочь Иаира. Он вошел в лодку и отправился в море со своими учениками, и когда они разбудили его во время бури, он голосом своим усмирил ветер и успокоил разбушевавшееся море. Он высадился на другой берег, в нескольких милях от Капернаума, и изгнал бесов из двух одержимых, и вселил бесов в стадо свиней. Вернувшись домой, он увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин, и велел ему следовать за собой, исцелил нескольких больных и дал повод к пересудам, разделив трапезу с мытарями и грешниками. Потом, исцеляя и поучая, он прошел по всей Галилее и побывал даже в Тире и Сидоне. Он выбрал двенадцать учеников и послал их по городам и селениям проповедовать новую веру. Он творил чудеса в Вифсаиде и Хоразине — в деревнях, отстоящих на две-три мили от Капернаума. Полагают, что это близ одной из них рыбацкие сети принесли чудесный улов, и в пустыне близ другой он накормил тысячи людей пятью хлебами и двумя рыбами. Он проклял обе эти деревни, а вместе с ними и Капернаум за то, что после всех великих деяний, совершенных здесь, они не покаялись, и предрек им гибель. Теперь они лежат в развалинах, на радость паломникам, ибо, по обыкновению, они относят бессмертные слова богов к бренным творениям рук человеческих; скорее всего слова Христа относились к людям, а не к их жалким жилищам: он говорил, что им плохо придется «в день суда», а что этим глиняным лачугам до дня страшного суда? Если бы теперь на месте этих почти исчезнувших развалин стояли великолепные города, все равно пророчество было бы ни при чем, это не подтверждало бы его и не опровергало. Христос побывал в Магдале, близ Капернаума, а также в Кесарии Филипповой. Посетил он отчий дом в Назарете и повидал своих братьев Иосию, Иуду, Иакова и Симона; можно было ожидать, что имена этих людей — они ведь родные братья Иисуса Христа — будут изредка упоминаться; но кто хоть раз встречал их в газете или слышал с церковной кафедры? Кто хоть раз поинтересовался, каковы они были в детстве и юности, спали ли они вместе с Иисусом, играли ли с ним в тихие и в шумные игры, ссорились ли с ним из-за игрушек и разных пустяков, били ли его, разозлившись и не подозревая, кто он такой? Кто хоть раз спросил себя, что думали они, когда он, уже прославленным, вернулся в Назарет и они долго вглядывались в его незнакомые черты и наконец сказали: «Да, это Иисус»? Кто спросил себя, что творилось в их душах, когда они видели, что брат их (для них он был всего лишь брат, хотя для других был он таинственный пришелец, Бог, видевший лицом к лицу Господа в небесах) творит чудеса на глазах пораженных изумлением толп? Кто задумался, просили ли они Иисуса войти в дом, сказали ли, что мать и сестры горюют о его долгом отсутствии и будут вне себя от радости, когда вновь увидят его? Кто вообще хоть раз подумал о сестрах Иисуса? А ведь у него были сестры, и воспоминание о них, должно быть, не раз закрадывалось ему в душу, когда чужие люди дурно обращались с ним, когда он, бездомный, говорил, что негде ему приклонить голову, когда все покинули его, даже Петр, и он остался один среди врагов.
В Назарете Христос сотворил мало чудес и пробыл там недолго. Люди говорили: «И это сын Божий! Да ведь его отец простой плотник. Мы знаем его родных. Мы видим их каждый день. Разве это не его братьев зовут так-то и так-то, а сестер так-то и так-то, и разве женщина по имени Мария не мать ему? Вздор!»
Он не проклял свой дом, он лишь отряс прах его со своих ног и удалился.
Капернаум лежит на самом берегу моря Галилейского, на равнине, длина которой всего пять миль, а ширина не больше двух; ее украшают олеандры, и вид их особенно приятен по сравнению с лишенными зелени горами и безнадежно унылой пустыней, но они вовсе не столь умопомрачительно прекрасны, как это изображают в книгах. Человек уравновешенный и твердый духом вполне может любоваться этими милыми кустами, не рискуя жизнью.
Пожалуй, больше всего виденного поразили нас крохотные размеры того клочка земли, на котором поднялось пышно расцветшее ныне древо христианства. Самое дальнее свое странствие Спаситель совершил, когда прошел отсюда до Иерусалима, — а это сто миль, может быть сто двадцать. На втором месте его путь до Сидона — миль шестьдесят — семьдесят. Места, особенно прославленные пребыванием в них Спасителя, не отстоят далеко друг от друга — по американским масштабам; почти все они в поле нашего зрения и не дальше пушечного выстрела от Капернаума. Если не считать двух-трех коротких путешествий, Христос провел всю свою жизнь, проповедовал свое учение и творил чудеса в пределах среднего американского округа. Мне приходится напрягать все свои силы, чтобы постичь этот поразительный факт. Как это утомляет, когда через каждые две-три мили ты вынужден прочитывать новую сотню страниц истории, — ибо поистине все знаменитые места в Палестине расположены так близко друг от друга. Как утомительно, как ошеломляюще встречать их на каждом шагу!
В положенное время мы прибыли в древнее селение Магдалу.
Глава XXI. Удивительные образцы искусства и архитектуры. — Как народ встречает паломников. — Дом Марии Магдалины. — Тивериада и ее обитатели. — Священное море Галилейское. — Море Галилейское ночью.
Магдала не блещет красотой, — это истинно сирийское селение, иными словами — безобразное, тесное, убогое, неуютное и грязное, — в точности такое, как все те города, что со времен Адама были украшением Сирии, в чем изо всех сил уверяли и наконец уверили публику наши писатели. Улицы Магдалы узкие, каких-нибудь три — шесть футов шириною, грязные и зловонные. Дома не выше семи футов, и все без исключения построены на один лад — унылые, неуклюжие коробки. Стены сплошь обмазаны белой известкой и с большим вкусом изукрашены лепешками сохнущего на солнце верблюжьего помета. Это сообщает зданию чрезвычайно воинственный вид, делает его похожим на крепость, устоявшую под градом пушечных ядер. А если еще хозяин с взыскательностью истинного художника позаботился о точности узора, чередуя ряды маленьких и больших лепешек и тщательно соблюдая одинаковые расстояния между ними, — право, нет зрелища приятней, нежели этот веселый сирийский орнамент. На плоской, обмазанной известкой крыше громоздятся живописные груды все того же декоративного материала, который складывают туда, когда он высохнет и готов к употреблению, чтобы он всегда был под рукой. Он служит здесь топливом. Палестина бедна лесом, во всяком случае на дрова его изводить не приходится, и угольных копей здесь тоже нет. Если мне удалось сколько-нибудь вразумительно описать здешние жилища, вы поймете, что квадратная хижина с плоской крышей, с разукрашенными стенами, на которых высятся зубцы и башенки сухого верблюжьего помета, сообщает пейзажу необычайную праздничность и живописность, особенно если еще не забыть сунуть по кошке в каждый уголок, где только для нее найдется местечко. В Сирии строят хижины без окон и без печных труб. Всякий раз, как я читал, что в Капернауме одного больного вместе с постелью доставили пред лицо Спасителя через крышу дома, я представлял себе трехэтажный кирпичный дом и только диву давался, как больному не сломали шею, внося его в комнаты столь необычным путем. Но теперь я понимаю, что его могли взять за ноги и перекинуть через дом, не причинив ему особого беспокойства. С тех давних времен в Палестине ничто не переменилось — ни обычаи, ни нравы, ни архитектура, ни люди.
Когда мы въехали в Магдалу, на улицах не было ни души. Но стук лошадиных копыт вывел жителей из тупого оцепенения, и все они высыпали из домов: старики и старухи, мальчишки и девчонки, юродивые, слепцы и калеки — полуголые, в грязи и в лохмотьях, и все — назойливые попрошайки по природе, по склонностям и привычкам. Бродяги, осыпанные паразитами, не давали нам проходу! Они выставляли напоказ свои рубцы и язвы, жалобно протягивали нам изувеченные, скрюченные руки и ноги, и взгляды их молили о милостыне. Мы вызвали духа и уже не могли с ним справиться. Они цеплялись за хвосты лошадей, повисали на гривах, на стременах, презирая опасность, лезли под самые копыта, и дикий языческий хор оглушительно вопил: «Какпоживай, бакшиш! Какпоживай, бакшиш! Какпоживай, бакшиш! Бакшиш! Бакшиш!» Никогда еще на меня не обрушивалась такая буря.
Мы гуськом двигались по городу, раздавая бакшиш детям с гноящимися глазами и полногрудым смуглым девушкам с уродливой татуировкой на подбородках и на губах, и наконец добрались до заросшего терновником огороженного пустыря, на котором еще сохранились развалины, напоминавшие постройки древнего Рима: здесь-то и жила когда-то святая Мария Магдалина, подруга и последовательница Иисуса. Гид верил в подлинность этого жилища, и я тоже поверил. Как же можно усомниться — ведь дом-то вот он! Паломники, по своему благородному обычаю, отбили по кусочку от фасада для коллекций, и мы отправились дальше.
Мы расположились на ночлег в Тивериаде, у самых городских ворот. Мы вошли в город еще засветло и успели разглядеть жителей; дома нас мало интересовали. Изучать местное население лучше всего издали. Все эти евреи, арабы и негры с виду на редкость непривлекательны. Убожество и нищета — гордость Тивериады. Девушки нанизывают свое приданое — турецкие серебряные монеты, накопленные ими с великим трудом или полученные в наследство, — на крепкую проволоку и носят ее на голове, так что она спускается с макушки к подбородку. Большинство этих девушек бедны, но изредка можно встретить и богатую невесту. Я видел там наследниц, чье богатство — да-да, смело могу сказать — равнялось по меньшей мере девяти с половиной долларам; и этим деньгам они полные хозяйки. Но такие богачки редкость. Когда встречаешься с такой девицей, она, разумеется, задирает нос. Она не попросит бакшиш и даже не допустит излишней фамильярности. С неприступным и невозмутимым видом она проходит мимо, расчесывая волосы частым гребнем и напевая песенку, словно, кроме нее, тут никого и нет. Да, иным людям богатство кружит голову.
Как говорят, носатые, долговязые и, судя по виду, страдающие несварением желудка гробокопатели в неописуемых шляпах, из-под которых на каждое ухо свешивается но длинному локону, — это и есть издавна знакомые нам фарисеи, о которых мы читаем в Священном Писании. Поистине, так оно и есть. Стоит только посмотреть на их повадки, и сразу станет ясно, что по части фарисейства они мастера.
Сведения о Тивериаде я почерпнул из разных источников. Город был основан Иродом Антипой, убийцей Иоанна Крестителя, и назван в честь императора Тиверия. Полагают, что на месте сегодняшней Тивериады был город, построенный пышно и богато, о чем можно судить по великолепным порфировым колоннам, которые и поныне попадаются в городе и на южном берегу озера. Некогда они были рифленые, но, несмотря на то, что камень этот тверд, как железо, стерлись от времени и стали почти совсем гладкими. Колонны эти невелики, и здания, которые они украшали, без сомнения были скорее изящны, чем величественны. Тивериада — город молодой, он упоминается лишь в Новом завете, в Ветхом завете о нем нет ни слова.
Здесь в последний раз заседал Синедрион, и на протяжении трех столетий Тивериада была столицей еврейского государства в Палестине. Это один из четырех священных израильских городов, она для евреев то же, что Мекка для мусульман и Иерусалим для христиан. Она всегда славилась своими учеными раввинами. Все они погребены здесь, и тут же покоятся двадцать пять тысяч их единоверцев, прибывших издалека, чтобы жить подле них и находиться рядом с ними после смерти. Великий рабби Бен Израиль провел здесь три года в самом начале третьего столетия. Теперь его уже нет в живых.
Прославленное море Галилейское куда меньше озера Тахо[186] — примерно две трети его. А если уж говорить о красоте, это море так же мало похоже на Тахо, как меридиан на радугу. Эта мутная лужа ничем не напоминает прозрачных, искрящихся вод Тахо; эти каменные и песчаные бугры, низкие, лысые, рыжие, так убоги по сравнению с исполинскими пиками, стеной обступающими Тахо! Там ребристые, в глубоких расселинах склоны, обращенные к озеру, поросли величавыми соснами, сосны карабкаются все выше, кажутся все меньше, и когда закинешь голову, чудится, что там, где они достигают вечных снегов, это уже не сосны, а просто кустарник и сорные травы. Безмолвием и уединением дышит Тахо. Безмолвно и уединенно и здесь, на Геннисаретском озере. Но там уединение манит и радует душу, а здесь гнетет и отталкивает.
Рано поутру с безмятежным спокойствием следишь за безмолвным поединком света и тьмы над водами Тахо; но когда тени истают и понемногу в полдневном сиянии откроется вся тайная прелесть его берегов; когда от них на спокойную гладь озера ложатся, точно радуга, широкие цветные полосы — синяя, зеленая, белая; когда летним днем, полным неги, лежишь в лодке на середине озера, где синева сгущается и воды особенно глубоки, и покуриваешь трубку мира и лениво поглядываешь из-под козырька фуражки на далекие утесы, кое-где белеющие снегами; когда лодку медленно сносит к берегу, где вода прозрачна, и сидишь, облокотясь на борт, и часами вглядываешься в хрустальную глубь, и различаешь цвет камешков на дне, и видишь стаи рыб, скользящие одна за другой в сотне футов под тобою; когда ночью видишь луну и звезды, горные хребты, оперенные соснами — иные в белых капюшонах, крутые уступы и суровые скалы со всех сторон, увенчанные голыми, мерцающими в лунном свете остроконечными вершинами, и вся эта величественная картина до мельчайших подробностей отражена в зеркальной глади озера, — созерцательное спокойствие, с которым ты смотрел на все это утром, постепенно сменяется чувством все более глубоким, пока наконец тобой не овладеет неотразимое очарование.
На озере Тахо одиноко, ибо, кроме птиц и белок на берегу и рыб в воде, здесь нет ни души. Но это не то одиночество, что гнетет. То ищите в Галилее. Безлюдные пустыни, угрюмые, бесплодные горы, которым никогда, никогда, до скончания века не стряхнуть с угловатых плеч блеск палящего солнца, не окутаться мягкой дымкой, не растаять в тумане; унылые развалины Капернаума; оцепеневшая Тивериада, погруженная в непробудный сон под траурным плюмажем своих шести пальм; голый откос, с которого после чуда, сотворенного Иисусом, бросились в море свиньи и уж наверно думали, что куда лучше проглотить парочку бесов и утонуть в придачу, чем гнить в таком гиблом месте; безоблачное, жгучее небо; угрюмое, тусклое, ни единым парусом не оживленное озеро, покоящееся среди рыжих гор и низких, но обрывистых берегов, такое невыразительное и непоэтичное (если не касаться его славной истории), как любой бассейн в любом христианском городе, — если вся эта скука не сморила меня, так меня уж ничем не усыпишь.
Но мне не следует ограничиваться обвинительной речью, не давая слова защите. В. С. Граймс свидетельствует:
«Мы наняли парусник, чтобы переправиться на другой берег. Озеро не шире шести миль. Однако окружающий пейзаж столь прекрасен, что я не в силах описать его, и я не могу понять, где были глаза путешественников, которые писали, что он однообразен и скучен. Прежде всего замечательна глубокая чаша, в которой покоится озеро. Лишь с одной стороны глубина ее меньше трехсот футов, а местами достигает и четырехсот; обрывистые берега, густо поросшие пышной зеленью, иссечены ущельями и бурными потоками, которые низвергаются по глубоким темным расселинам или мчатся по солнечным долинам. Близ Тивериады берега скалистые, и в них высечены древние гробницы, выходящие в сторону озера. Для погребения выбирали самые живописные места, как делали древние египтяне, словно желая, чтобы, когда глас Божий пробудит спящих и они восстанут от сна, мир предстал бы их взорам во всем своем блеске. Дикие пустынные горы, громоздящиеся на востоке, великолепно оттеняют густую синеву озера; на севере глядится в море царственно величавая гора Хермон, она вздымает к небесам свой белый венец, гордая тем, что видела, как исчезают следы сотен ушедших поколений. На северо-восточном берегу стоит одинокое дерево — только оно одно и видно с моря, если не считать нескольких пальм в самом городе, — и, одинокое, привлекает куда больше внимания, чем если бы тут рос целый лес. Все здесь именно такое, как мы представляли себе и каким хотели видеть Геннисаретское озеро, — величавая красота и мирный покой. Даже горы и те спокойны».
Это искусное описание, и цель его — обмануть читателя. Однако если стереть румяна, сорвать цветы и ленты, под ними окажется скелет.
Когда сняты украшения, остается лишь бесцветное озеро шести миль в ширину, с крутыми зелеными берегами, без единого кустика; по одну сторону голые, неприглядные скалы с едва заметными углублениями, которые их отнюдь не красят; на востоке — «дикие пустынные горы» (лучше бы он сказал — невысокие пустынные холмы); на севере — гора по имени Хермон со снежной вершиной; главная особенность всей этой картины — покой; самая характерная деталь ее — единственное дерево.
Нет, как ни старайся, а когда поглядишь на это собственными глазами — никакой красоты тут не найдешь.
Я считаю себя вправе опровергать ложные показания, а посему в вышеприведенном кратком описании исправил цвет воды. Геннисаретское озеро светло-голубое, белесое, даже если глядеть на него с высоты птичьего полета и с расстояния в пять миль. Когда же видишь его вблизи (а свидетель плавал по озеру) едва ли можно назвать его голубым, а тем более густосиним. Я хочу также заявить (это уже не поправка, но мое личное мнение), что Хермон — гора нисколько не замечательная и отнюдь не живописная, ибо высотой она почти не отличается от своих ближайших соседей. Вот и все. Я не возражаю против того, чтобы свидетель перетаскивал гору за сорок пять миль, дабы оживить обсуждаемый пейзаж, это самый обычный прием, и кроме того, картина от этого только выигрывает.
С. В. И. (автор «Жизни в Святой Земле») свидетельствует:
«Прекрасное озеро широко разлилось меж Галилейских гор, в сердце того края, которым некогда владели Завулон, Наффалим, Асир и Дан[187]. Лазурь небес отражается в озере, воды его свежи и прохладны. На западе раскинулись плодородные равнины; на севере скалистые берега уходят вдаль, поднимаясь все выше и выше, пока не достигнут снежных высот Хермона; на востоке сквозь дымку тумана видны нагорья Пирея, переходящие в суровые горы и многими стезями уводящие мысль к Иерусалиму, святому граду. Цветы цветут в этом земном раю, а некогда здесь волновалась пышная зелень дерев; певчие птицы услаждают слух, горлица нежно воркует, звонкая песнь жаворонка взлетает к небесам, и важный и величавый аист будит мысль, зовет к раздумьям и покою. Жизнь здесь была некогда идиллическая, прекрасная; здесь не было богатых и бедных, знатных и простолюдинов. Здесь царили довольство, красота, простодушие, а ныне здесь лишь нищета и запустение».
Это не слишком искусное описание. Я бы сказал, хуже некуда. Сначала подробно расписан так называемый «земной рай», а под конец вас огорошивают сообщением, что рай этот — «запустение и нищета».
Я привел здесь два обычных средних образца письменных свидетельств, которые выходят из-под пера большинства писателей, побывавших в этих краях. Один говорит: «окружающий пейзаж столь прекрасен, что я не в силах описать его», и затем накидывает покрывало пышных слов на нечто такое, что без покровов оказывается всего-навсего незначительным водоемом, гористой пустыней и одним-единственным деревом. Другой после добросовестной попытки построить «земной рай» из тех же материалов, с «важным и величавым аистом» в придачу, портит все дело, выболтав под конец унылую правду.
Почти во всех книгах о Галилее рассказывается, что окрестности озера очень красивы. Впрочем, не всегда это говорится так прямо. Иногда автор всячески старается создать у читателя впечатление, что места эти очень красивы, избегая, однако, сказать это простыми и ясными словами. Но тщательный анализ этих описаний покажет вам, что составные части картины сами по себе нехороши и, как их ни складывай, ничего хорошего не получится. Благоговение и любовь, которую испытывают к этим местам иные из авторов, разжигают их воображение и мешают им правильно судить; но во всяком случае всю эту милую ложь они пишут совершенно искренне. Другие же пишут так, опасаясь, что правдивое описание придется не по вкусу публике. Третьи просто лицемеры и умышленно вводят читателя в заблуждение. Спросите любого из них, и он без запинки ответит, что всегда и везде надо говорить одну лишь чистую правду. Во всяком случае, они непременно ответили бы так, если бы не поняли, к чему вы клоните.
Но почему нельзя сказать правду об этих местах? Разве правда вредна? Разве она когда-либо нуждалась в том, чтобы скрывать лицо свое? Бог создал море Галилейское и его окрестности такими, а не иными. По какому праву мистер Граймс берется приукрашивать Божие творение?
Судя по тем книгам, которые я прочел, среди путешественников, побывавших здесь в былые времена, было много пресвитериан, которые поехали сюда в поисках доказательств, подтверждающих их вероучение; они нашли здесь Палестину истинно пресвитерианскую и никакой другой и не желали видеть, хотя, быть может, ослепленные своей верой, они и в самом деле ничего не замечали. Были тут и баптисты, они искали подтверждения баптистской веры и свою, баптистскую, Палестину. Бывали тут и католики, и методисты, и приверженцы епископальной церкви — и каждый искал подтверждения своей веры, и каждый находил здесь свою Палестину — католическую, методистскую или епископальную. Быть может, все они приезжали сюда с самыми честными намерениями, но, полные предрассудков и пристрастий, они ступили на эту землю с заранее сложившимся мнением и так же мало способны были писать о ней бесстрастно и беспристрастно, как о своих женах и детях. Наши паломники тоже приехали с готовыми мнениями. Это стало ясно по их разговорам, как только мы выехали из Бейрута. Я бы даже, наверно, мог в точности предугадать, что они скажут, увидев Фавор, Назарет, Иерихон и Иерусалим, ибо я знал, из каких книг они стибрили свои идеи. Авторы рисуют картины и сочиняют хвалебные песни, а меньшая братия глядит на мир их глазами и говорит их языком. Я был удивлен мудрыми словами паломников о Кесарии Филипповой. Впоследствии я все это нашел у Робинсона. Меня пленило то, что они сказали, когда Геннисаретское озеро вдруг открылось нашим взорам. Я нашел эти полные изящества слова в книге мистера Томсона «Святая Земля и Библия». Нередко — и всегда одними и теми же красивыми словами — они говорили о том, как они наконец, по примеру Иакова, приклонят свои усталые головы на камень Вефиля и смежат тяжелые веки, — и, быть может, им приснятся ангелы, спускающиеся по лестнице с небес. Это звучало очень мило. Но в конце концов я натолкнулся и на «усталые головы» и на «тяжелые веки». Они позаимствовали и мысль, и слова, и их порядок у Граймса. Вернувшись домой, паломники будут рассказывать не о той Палестине, какая предстала их взорам, а о той, какую увидели Томсон, Робинсон и Граймс, с некоторыми оттенками, в зависимости от веры, исповедуемой каждым из рассказчиков.
Паломники, грешники и арабы — все уже улеглись, и лагерь затих. Трудиться в одиночестве скучно. Я записал в дневник последние несколько слов, вышел из шатра и вот уже полчаса сижу под открытым небом. Ночью самое время смотреть на море Галилейское. В звездном сиянии оно вовсе не кажется отталкивающим. Глядя на отражения мерцающих созвездий, рассыпанные по его волнам, я почти пожалел, что видел его в беспощадном свете дня. Прелесть Геннисарета в его прошлом, в тех мыслях, что он пробуждает, но чары, которыми он оплетает душу, не могут устоять против всепроникающего солнечного света. В дневные часы они не властны над нами. Мысли наши то и дело обращаются к житейской прозе, отказываясь витать в туманном, нереальном мире. Но когда день гаснет, даже наименее чуткие натуры поддаются мечтательному очарованию и покою звездной ночи. Древние предания, рожденные здесь, прокрадываются в память и завладевают мечтами, и право же, во всем, что видишь и слышишь вокруг, невольно чудится что-то потустороннее. В шепоте волн, набегающих на берег, слышатся всплески весел, в приглушенных шумах ночи — таинственные голоса, в мягком шелесте ветерка — взмахи невидимых крыльев; призрачные корабли плывут по морю, усопшие двадцати столетий выходят из гробниц, и в заунывном пении ночного ветра снова звучат напевы давно забытых времен.
В звездном сиянии у моря нет границ, лишь небо объемлет его со всех сторон, и сцена эта достойна разыгравшихся на нем великих событий; достойна рождения новой веры, призванной спасти мир; достойна величавого образа того, кто провозгласил отсюда свои высокие заветы. Но в свете дня говоришь себе: неужели ради деяний, свершенных на этом скалистом, песчаном клочке пустыни, ради слов, что были сказаны здесь восемнадцать веков назад, ныне звонят колокола на самых далеких островах, по всем материкам нашей огромной планеты?
Это можно постичь лишь ночью, которая скрадывает все, что может нарушить гармонию, и превращает море Галилейское в подмостки, достойные столь великой драмы.
Глава XXII. Древние бани. — Последняя битва крестоносцев. — Гора Фавор. — Вид с ее вершины. — Воспоминания о волшебном саде. — Жилище пророчицы Деворы.
Мы снова купались в море Галилейском, вчера в сумерки и сегодня на восходе солнца. Мы не плавали по нему, но разве три купанья не стоят одного плавания? Рыбы здесь видимо-невидимо, но, отправляясь в странствие, мы запаслись лишь описаниями путешествий вроде «В шатрах на Святой Земле» и «Святая Земля и Библия» и не запаслись рыболовной снастью. В Тивериаде рыбой не разживешься. Мы, правда, видели, как двое или трое бездельников чинили сети, но на наших глазах они так ни разу и не закинули их в море.
Мы не пошли в древние бани в двух милях от Тивериады. У меня не было ни малейшего желания туда идти. Это удивило меня и побудило задуматься над причиной столь непостижимого равнодушия. Оказалось, все дело в том, что их упоминает Плиний[188]. С некоторых пор я самым непозволительным образом невзлюбил Плиния и апостола Павла, — ведь я никак не мог найти такого уголка, который принадлежал бы мне одному. Всякий раз неизменно оказывалось, что апостол Павел побывал здесь, а Плиний упоминает это место в своих трудах.
Ранним утром мы оседлали своих скакунов и отправились в путь. И тут во главе процессии возникла загадочная фигура — я бы назвал ее пиратом, если бы пираты водились на суше. Это был рослый араб, еще молодой — лет тридцати, кожа у него была медного оттенка, точно у индейца. Голову туго обвивал яркий шелковый шарф — желтый в красную полоску, — концы которого, окаймленные густой бахромой, свисали на плечи и колыхались на ветру. От шеи до колен свободными складками ниспадал плащ — настоящее звездное знамя, все в волнистых, змеящихся черных и белых полосах. Откуда-то из-за спины торчал высоко над правым плечом длинный чубук. Высоко над левым плечом торчал ствол висящего за спиной непомерно длинного ружья — из тех, какими вооружены были арабы во времена Саладина, — все, от ложа до самого дула, отделанное серебром. Вокруг стана множество раз обернут был длинный-предлинный, искусно расшитый, но до неузнаваемости выгоревший кусок шелка родом из роскошной Персии, и впереди, среди бесчисленных складок, сверкала на солнце грозная батарея старинных, оправленных медью исполинских пистолетов и позолоченные рукояти кровожадных ножей. Еще несколько пистолетов в кобурах было подвешено к длинношерстным козьим шкурам и персидским коврам, которые громоздились на спине лошади и, видимо, должны были заменить седло; широкие железные стремена вздергивали колена воина под самый подбородок, и, бряцая о стремя, среди свисающих с седла огромных кистей болталась кривая, отделанная серебром сабля таких великанских размеров и такого свирепого вида, что при одном взгляде на нее самого отчаянного храбреца должно было бросить в дрожь. Разряженный в пух и прах принц, что, верхом на пони и ведя в поводу слона, гордо вступает в селение во главе бродячего цирка, нищ и наг пред этим пышно разубранным всадником, и удовлетворенное тщеславие первого сущая безделица по сравнению с царственным величием и бьющим через край самодовольством второго.
— Кто это? Что это? — посыпались со всех сторон испуганные вопросы.
— Наш телохранитель! От Галилеи до места рождения Спасителя страна кишит свирепыми бедуинами, у которых в этой жизни одна утеха — резать, рубить, увечить и убивать ни в чем не повинных христиан. Спаси нас аллах!
— Тогда наймите полк солдат! Неужели вы пошлете нас навстречу ордам головорезов, когда у нас не будет иной защиты, кроме этого ходячего арсенала?
Драгоман рассмеялся — но не остроумному сравнению, ибо поистине не родился еще на свет гид, проводник или драгоман, способный хоть как-то оценить шутку, даже если она такая грубая и тяжеловесная, что, упади она на него, она расплющила бы его в лепешку, — драгоман рассмеялся и, подстрекаемый, без сомнения, какой-то своей, тайной мыслью, позволил себе даже подмигнуть нам.
Когда в таких передрягах человек смеется, это придает храбрости; когда он подмигивает — на душе становится совсем спокойно. Наконец он дал понять, что мы и с одним стражем будем в полной безопасности, но уж без этого одного никак нельзя: его устрашающие доспехи окажут магическое действие на бедуинов. Тогда я сказал, что нам вообще не нужны никакие стражи. Если один нелепо вырядившийся бродяга может спасти от всех бед восьмерых вооруженных христиан и целую кучу их темнокожих слуг, так уж конечно они и сами сумеют себя защитить. Драгоман с сомнением покачал головой. Тогда я сказал:
— Подумайте только, на что это похоже! Подумайте, что скажут самоуверенные американцы, если мы будем трусливо пробираться по этой безлюдной пустыне под охраной какого-то ряженого араба, который сломит себе шею, удирая во все лопатки, если за ним погонится настоящий мужчина? Это глупо, это попросту унизительно. Зачем нам велели запастись пистолетами, если мы все равно отданы под защиту этого негодяя в звездно-полосатом плаще?
Все уговоры были тщетны, драгоман только улыбался да покачивал головой.
Я выехал вперед, завязал знакомство с этим новоявленным царем Соломоном-во-всей-славе-его и заставил его показать мне свое допотопное ружье. Замок его проржавел; ствол сплошь был в серебряных кольцах, пластинках, бляшках, но при этом он был кривой, как бильярдные кии выпуска сорок девятого года, которые все еще попадаются на старых приисках Калифорнии. Дуло было до филигранной тонкости изъедено узором многовековой ржавчины, и край стал как обгоревшая печная труба. Зажмурив один глаз, я заглянул в дуло — оно все заросло ржавчиной, как старый паровой котел. Я взял в руки исполинские пистолеты и взвел курок. Они тоже изнутри проржавели, и уже целую вечность их никто не заряжал. Я вернулся на свое место весьма ободренный, рассказал обо всем гиду и попросил его отпустить эту безоружную крепость на все четыре стороны. И тогда все объяснилось. Этот молодец состоит на службе у шейха Тивериады. Он источник государственных доходов. Для Тивериадской империи он то же, что для Америки таможенные пошлины. Шейх навязывает путешественникам охрану и взимает с них за это плату. Это богатый источник доходов, в иные годы он приносит казне до тридцати пяти и даже сорока долларов.
Теперь я знал тайну этого воина; знал истинную цену его проржавевшей мишуре и презирал его ослиное самодовольство. Я наябедничал на него и вместе со всей безрассудно отважной кавалькадой двинулся навстречу опасностям безлюдной пустыни, не слушая его отчаянных воплей, суливших нам увечье и смерть на каждом шагу.
Мы поднялись на тысячу двести футов над озером (я не могу не упомянуть о том, что озеро лежит на шестьсот футов ниже уровня Средиземного моря, — еще ни один путешественник не пренебрег возможностью украсить свои письма этой знаменитой подробностью), и нам открылась убогая панорама, — столь убогим, наводящим тоску видом не всякая страна может похвастать. Но земля эта так густо населена историческими воспоминаниями, что если бы выстлать ее страницами книг, о ней написанных, они покрыли бы ее сплошным ковром от края и до края. В эту панораму входят гора Хермон, горы, окружающие Кесарию Филиппову, Дан, истоки Иордана и Меромские воды, Тивериада, море Галилейское, ров Иосифа, Капернаум, Вифсаида, места, где, как предполагают, была произнесена Нагорная проповедь, и где были накормлены голодные толпы, и где произошел чудесный улов рыбы; откос, с которого свиньи кинулись в море; места, где Иордан впадает в озеро и вновь вытекает из него; Сафед — «город на холме», один из четырех священных еврейских городов, тот самый, где, как верят иудеи, появится истинный мессия, когда придет спасать мир; отсюда видна также часть поля, где разыгралась битва при Гаттине — последняя битва рыцарей-крестоносцев, после которой они в блеске славы сошли со сцены и навсегда покончили со своими великолепными походами; гора Фавор, на которой, по преданию, совершилось преображение Господне. А вид, открывшийся нам дальше, на юго-востоке, вызвал у меня в памяти одно место из Библии (я, разумеется, не припомнил его в точности).
Ефремляне, с которыми сыны Израилевы не пожелали поделиться богатой добычей, доставшейся им в войне с аммонитянами, собрали могучее войско и пошли войной на Иефая, судью Израиля; но ему сообщили об их приближении, и, собрав сынов Израиля, он сразился с аммонитянами и обратил их в бегство. Чтобы закрепить свою победу, Иефай захватил броды и переправы Иордана, приказав не пропускать никого, кто не сумеет сказать «шибболет». Ефремляне, происходившие из другого племени, не могли произнести этого слова правильно, они говорили «сибболет», доказывая этим, что они враги, и их тут же лишали жизни; так и случилось, что в тот день у бродов и переправ через Иордан полегло сорок две тысячи человек.
Мы мирно трусили по дороге, по которой проходят караваны, направляющиеся из Дамаска в Иерусалим и Египет, мимо Лубии и других сирийских деревушек, примостившихся на вершинах крутых гор и холмов и защищенных живыми изгородями из гигантских кактусов (признак бесплодной земли), на которых растут колючие груши, громадные, точно окорока, и наконец прибыли на поле битвы при Гаттине.
Это обширное неправильной формы плоскогорье кажется нарочно создано для сражений. Лет семьсот тому назад несравненный Саладин встретился с войском христиан и раз и навсегда положил конец их владычеству в Палестине. Задолго до этого между воюющими сторонами установилось перемирие, но, согласно путеводителю, Рейнольд Шатильонский, правитель Кирэка, нарушил его, разграбив дамасский караван и, несмотря на требование Саладина, не пожелал вернуть ни купцов, ни их товары. Такая дерзость ничтожного военачальника задела султана за живое, и он поклялся, что убьет Рейнольда собственной рукой, где бы и когда бы тот ему ни попался. Оба войска приготовились к бою. Под началом нерешительного короля иерусалимского был цвет христианского рыцарства. Он по недомыслию заставил их совершить долгий, изнурительный переход под палящим солнцем и приказал им стать лагерем на этой открытой, безводной равнине, где нечем было утолить голод и жажду. Полчища мусульман на превосходных конях, обогнув Геннисарет с севера, хлынули сюда, сжигая и разрушая все на своем пути, и стали лагерем напротив врага. На заре началось кровопролитное сражение. Окруженные со всех сторон несметным воинством султана, христианские рыцари бились не на жизнь, а на смерть. Они бились с отчаянной доблестью, но все было напрасно: жара, численное превосходство врага, изнурительная жажда — все было против них. К середине дня храбрейшие из храбрых пробились сквозь ряды мусульман и захватили вершину невысокой горы и там, сгрудившись вокруг Христова знамени, снова и снова отбивали атаки вражеской конницы.
Но часы владычества христиан в Палестине были уже сочтены. На закате Саладин стал властителем Палестины, крестоносцы полегли на поле боя, всюду лежали груды тел, а король иерусалимский, глава ордена тамплиеров, и Рейнольд Шатильонский оказались пленниками султана. Саладин обошелся с двумя из своих узников с величайшей учтивостью и приказал подать им угощение. А когда король протянул ледяной шербет Шатильону, султан сказал: «Это ты ему даешь, не я». Он помнил свою клятву и собственной рукой зарубил злополучного рыцаря Шатильонского.
Нелегко представить себе, что эту безмолвную равнину некогда оглашала грозная музыка боя и сотрясала тяжкая поступь вооруженных воинов. Нелегко населить эту пустыню стремительными отрядами конницы и возмутить сонное оцепенение победными кликами, стонами раненых, мельканьем стягов и мечей над волнующимся морем битвы. Так безнадежно это запустение, что никакая фантазия не в силах вдохнуть в него движение и жизнь.
Мы в целости и сохранности добрались до Фавора, и притом значительно опередили наше обвешанное оружием чучело. За всю дорогу мы не встретили ни души, а уж о свирепых ордах бедуинов никто и слыхом не слыхал. Фавор стоит уединенно и одиноко — гигантский часовой равнины Ездрилонской. Он возвышается примерно на тысячу четыреста футов над окружающей равниной; изящно очерченный конус, поросший лесом, виден издалека и радует глаз путника, утомленного невыносимым однообразием пустынной Сирии. Крутой тропкой, проложенной в овеваемых ветром дубовых рощах и зарослях боярышника, мы взобрались на вершину. Картина, открывшаяся нам с этой высоты, была почти прекрасна. Внизу широко раскинулась плоская равнина Ездрилона, вся расчерченная клетками полей, точно шахматная доска, и такая же гладкая и ровная; по краям она усеяна крошечными белыми деревушками, и всюду, вблизи и вдали, вьются по ней дороги и тропы. Ранней весной, в молодом зеленом уборе, картина эта, должно быть, прелестна. На юге равнины встает Малый Хермон, за вершиной которого можно разглядеть Гелвуй. Отсюда виден и Наин, известный тем, что здесь воскрешен был сын вдовицы, и Аендор[189], не менее известный своей волшебницей. На востоке лежит долина Иордана, а за ней поднимаются Гилеадские горы. На западе — гора Кармель. Хермон на севере, плоскогорье Васана, и священный город Сафед, мерцающий белизной, на высоком отроге Ливанских гор, и синевато-стальной край моря Галилейского, и гора Гаттин со своей двойной вершиной — легендарная «Гора Блаженных», немая свидетельница последней отчаянной битвы крестоносцев за святой крест, — все это довершает открывшуюся нам картину.
Взглянуть на эту картину через живописную раму полуразрушенной, разбитой каменной арки времен Христа, которая скрывает все неприглядное, — ради такого удовольствия стоит карабкаться в гору. Станьте на самой ее вершине и вдвойне насладитесь прекрасным закатом; имейте смелость заключить картину в массивную раму, и тогда лишь увидите, как она хороша. Эту истину узнаешь — и уже никогда не забыть ее — в волшебном уголке, в замечательном саду графа Палавичини близ Генуи. Часами блуждаешь среди гор и лесистых долин, сделанных так искусно, что кажется, будто они созданы не рукой человека, а самой природой; идешь по извилистым тропинкам — и вдруг перед тобой низвергающийся водопад и перекинутый через него мостик; в самых неожиданных местах находишь лесные озера; бродишь по разрушенным средневековым замкам в миниатюре, которые кажутся памятниками старины, а на самом деле построены всего лет десять назад; предаешься размышлениям над крошащимся мрамором древней гробницы, чьи колонны намеренно оббиты и облуплены их творцом — современным ваятелем; нечаянно натыкаешься на игрушечные дворцы, сложенные из редкого и дорогого камня, а рядом стоит крестьянская хижина, о ветхой мебели которой никогда не скажешь, что она сделана по особому заказу; скачешь по кругу посреди леса на заколдованном деревянном коне, который приводится в движение какой-то невидимой силой; пересекаешь римские дороги и проходишь под величественными триумфальными арками; отдыхаешь в прихотливых беседках, где незримые духи со всех сторон поливают тебя струйками воды и где даже цветы, стоит лишь коснуться их, встречают тебя дождем брызг; катаешься на лодке по подземному озеру среди пещер и гротов, волшебно украшенных гроздьями сталактитов, и, выплыв на солнечный свет, оказываешься на другом озере, с отлогими зелеными берегами, а на нем покачиваются на якоре нарядные гондолы под сенью крохотного мраморного храма, который поднимается из прозрачных вод и белоснежные статуи и колонны которого — с каннелюрами и вычурными капителями — отражаются в спокойных глубинах. Так переходишь от одних чудес к другим и всякий раз думаешь, что то чудо, которое видел последним, и есть самое главное. И действительно, чудо из чудес припасено напоследок, но его не увидишь, пока, высадившись на берег и пройдя сквозь заросли редкостных цветов, собранных со всех концов света, не остановишься в дверях еще одного мнимого храма. Вот здесь-то гений художника достиг своей вершины и поистине распахнул пред нами врата волшебной страны. Смотришь через самое обыкновенное желтое стекло, и прежде всего, в каких-нибудь десяти шагах перед собой, видишь трепещущее море листвы, посреди него неровный просвет, словно вход куда-то, — в лесу часто встречаешь такой, и он не вызывает мысли о хитроумном вмешательстве человека, — и в этом просвете то здесь, то там в буйной тропической листве сверкают яркие цветы. И вдруг в этом нежданном ослепительном просвете тебе предстает дивное видение: ничего нежнее, мягче, прекраснее не грезилось в смертный час ни одному святому с тех пор, как Иоанн Богослов увидал святый град, мерцающий в небесах над облаками. Широко раскинулось море, испещренное кренящимися под ветром парусами; острый мыс вдается в его синеву, и на нем гордо высится маяк; за ним пологая лужайка; а дальше виднеется Генуя, древний «город дворцов», — его парки, и холмы, и величественные здания; еще дальше — исполинская гора четко выделяется на фоне неба и моря, — и над всем, в золотом небесном просторе, плывут легкие хлопья и клочки облаков. Все золотое — море, и город, и луг, и гора, и небо, — всюду золото, все богато, и пышно, и сказочно, словно видение рая. Ни один художник не мог бы запечатлеть на полотне эту чарующую красоту, — и однако, не будь здесь желтого стекла и хитро придуманной рамы, которая отодвигает все в волшебную даль и отсекает все, что может испортить вид, картина эта вовсе не вызывала бы восторгов. Такова жизнь, и на всех нас змий-искуситель наложил свою печать.
Теперь, хочешь не хочешь, надо снова вернуться к горе Фавор, хотя это предмет довольно скучный, и я не могу не отвлекаться и не вспоминать картины, куда более приятные. Ну, постараюсь не задерживаться на ней. Ничего в ней нет примечательного (если не считать того, что, как мы предполагаем, здесь свершилось преображение Господне), только седые руины, которые скоплялись здесь век за веком, начиная со времен отважного Гедеона и других воинов, процветавших здесь тридцать столетий назад, и вплоть до вчерашнего дня истории, ознаменованного крестовыми походами. Тут стоит греческий монастырь, в нем угощают превосходным кофе, но здесь не найдешь ни щепочки от истинного креста, ни единой косточки святого, чтобы занять праздные мысли мирян и направить их в более серьезное русло. Я ни во что не ставлю ту древнюю церковь, которая не может похвастать своими святынями.
Равнина Ездрилонская — «поле битвы народов» — вызывает думы об Иисусе Навине, Венададе, Савле и Гедеоне; о Тамерлане, Танкреде, Ричарде Львиное Сердце и Саладине; о воинственных царях персидских, о героях Египта, о Наполеоне — ибо все они сражались здесь. Если бы колдовской свет луны мог вызвать из могил тьмы и тьмы воинов всех времен и народов в причудливых и несхожих одеждах, некогда устремлявшихся сюда со всех концов земли и вступивших в битву на этом бескрайнем поле, и это многоцветное войско с пышными султанами, знаменами и сверкающими копьями вновь затопило бы равнину, я простоял бы здесь целую вечность, любуясь этим призрачным шествием. Но колдовской свет луны — это тщета и обман, и смертному, который уверует в него, уготованы скорбь и разочарование.
У подножья горы Фавор, у самого края легендарной равнины Ездрилонской, прилепилась жалкая деревушка Девурье, где жила пророчица Девора. Деревушка эта как две капли воды похожа на Магдалу.
Глава XXIII. По дороге в Назарет. — Укушенный верблюдом. — Трот Благовещения, Назарет. — Мастерская Иосифа. — Священный камень. — Источник богородицы. — Литературные диковинки.
Мы спустились с горы Фавор, пересекли глубокое ущелье и каменистой горной дорогой двинулись к Назарету, до которого было два часа пути. На Востоке расстояния измеряются не милями, а часами. Добрый конь почти по любой дороге проходит три мили в час, — стало быть час пути означает три мили. Это утомительный и нудный способ подсчета; пока окончательно не привыкнешь к нему, не можешь ничего сообразить, и приходится всякий раз переводить языческие часы на христианские мили, как поступает человек, к которому обращаются на чужом языке, знакомом ему не настолько, чтобы он сразу уловил смысл услышанного. Расстояния, которые проходят пешком, тоже измеряются часами и минутами, но я не знаю, что кладут в основу расчетов. Если спросишь в Константинополе: «Далеко ли до консульства?» Вам ответят: «Минут десять». «Далеко ли до агентства Ллойда[190]?»— «Четверть часа». «Далеко ли до нижнего моста?»— «Четыре минуты». Не берусь утверждать со всей решительностью, но, вероятно, заказывая панталоны, заказчик говорит портному, что они должны быть четверть минуты длиною и девяти секунд в поясе.
От Фавора до Назарета два часа езды, и поскольку дорога необыкновенно узкая и извилистая, уж конечно мы должны были именно здесь повстречать все караваны верблюдов и всех ослов, сколько их было между Иерихоном и Джексонвилом. Ослы бы еще не беда — они такие крохотные, что лошадь, если она с огоньком, вполне может перескочить через них, но через верблюда не перескочишь. Верблюд ростом с обыкновенный сирийский дом, — иными словами, он на фут-два, а то и на все три выше рослого мужчины. В этих краях его чаще всего навьючивают двумя гигантскими тюками, по одному с каждой стороны. Со своей поклажей он занимает не меньше места, чем карета. Подумайте, каково встретить такую преграду на узкой дорожке. Верблюд не свернет с дороги ни за какие блага. Он невозмутимо шествует своим широким шагом с равномерностью маятника, и кто бы ни встретился ему, должен по доброй воле уступить дорогу, или верблюд своими громоздкими тюками сметет его силой. Этот переход измучил нас, а лошадей довел до полного изнеможения. Нам пришлось перескочить чуть не через тысячу восемьсот осликов, и всех нас верблюды без конца выбрасывали из седла, только один счастливчик может похвастать тем, что падал меньше шестидесяти раз. Это может показаться бессовестным преувеличением, но, как сказал поэт, «вещи не таковы, какими они кажутся». Ничто, по-моему, вернее не бросит вас в дрожь, чем верблюд, который неслышно подкрался к вам сзади и дотронулся до вашего уха своей холодной отвисшей губой. Верблюд проделал это с одним из моих спутников, который, охваченный мрачными размышлениями, поник в седле. Несчастный поднял глаза, увидел маячившее над ним величественное животное и в отчаянии пытался убраться с дороги, но, прежде чем ему это удалось, верблюд дотянулся до него и укусил его за плечо. Это было единственное приятное событие за весь переход.
В Назарете мы раскинули лагерь в оливковой роще, близ источника богородицы, и наш великолепный страж пришел получить бакшиш за свои услуги, — ведь он следовал за нами от самой Тивериады и одним видом своего грозного оружия отвращал от нас незримые опасности. Драгоман уже заплатил его хозяину, но это не считается: если вы нанимаете человека чихать за вас и кто-то пожелает помочь ему, вы должны платить обоим. Здесь задаром и шага не ступят. Как должны были удивиться здешние жители, когда им предложили спасение, «которое не стоит денег и которому нет цены». Если люди, их нравы и обычаи и изменились со времен Спасителя, то с помощью библейских образов и метафор этого не докажешь.
Мы вошли в большой католический монастырь, построенный на том месте, где, как говорит предание, проживало святое семейство. По пятнадцати ступеням мы спустились под землю и очутились в маленькой часовне, искусно убранной ткаными завесами, серебряными светильниками и расписанной маслом. На мраморном полу, пред алтарем, крестом отмечено место, ставшее навеки священным, ибо считается, что именно здесь стояла дева Мария, когда ангел принес ей благую весть. Как просто, как скромно это место для столь грандиозного события! В память его во всем цивилизованном мире были воздвигнуты великолепные раки и царственно прекрасные храмы, величайшие художники мира считали для себя самой высокой честью запечатлеть его на своих полотнах; история этого места знакома каждому, даже малому ребенку, в любом городе, в любой глухой деревушке, в самых отдаленных уголках христианского мира; несметное множество людей готово пересечь всю землю ради счастья увидеть это место. Умом я, конечно, прекрасно понимал это. Но очутившись здесь, я никак не мог проникнуться величием этой минуты. У себя дома, за несколько тысяч миль отсюда, я так ясно представлял себе явление светозарного и легкокрылого ангела и видел небесный свет, осиявший деву, когда слуха ее коснулась ниспосланная свыше весть. Сидя но ту сторону океана, каждый может представить себе эту картину, но лишь немногим удается это здесь. Я видел нишу, из которой выступил ангел, но не смог заполнить ее пустоту. Ангелы, которые мне знакомы, созданы зыбким воображением, они неуместны в прочных каменных нишах. Фантазия лучше всего работает на расстоянии. Не знаю, найдется ли хоть один человек, способный, стоя в гроте Благовещения, населить его чересчур осязаемые каменные стены призрачными образами, живущими в его душе.
Нам показали обломок гранитной колонны, повисшей под кровлей; говорят, колонну разбили мусульманские завоеватели Назарета, тщетно пытавшиеся сокрушить святилище. Но колонна чудом осталась висеть в воздухе и, сама ничем не поддерживаемая, поддерживала и до сих пор поддерживает кровлю. Мы разделили это чудо на восьмерых, и тогда оказалось, что общими силами в него не так уж трудно поверить.
Даровитые католические монахи ничего не делают наполовину. Если бы они решили показать вам медного змия, воздвигнутого в пустыне, — можете не сомневаться, они припасли бы и столб, на котором он был поднят и даже яму, в которую этот столб был врыт. У них здесь есть грот Благовещения; и как всякому, имеющему уста, естественно иметь и гортань, так и у них имеется еще и кухня богородицы, и даже гостиная, где восемнадцать столетий тому назад дева Мария и Иосиф любовались, как младенец Христос играл иудейскими игрушками. Все эти «гроты» — под одной крышей, все чистые, просторные и удобные. Любопытно, что все, кто был тесно связан со святым семейством, всегда жили в «гротах» — в Назарете, в Вифлееме, в царственном Эфесе, — между тем никому из их сверстников и современников ничего подобного и в голову не приходило. А если они и жили в таких пещерах, пещеры эти давно бесследно исчезли, и остается лишь диву даваться, что те, о которых я рассказываю, сохранились по сей день. Когда богородица спасалась бегством от гнева Ирода, она укрылась в Вифлеемской пещере, и пещера эта цела и поныне; избиение младенцев в Вифлееме происходило в пещере, Спаситель родился в пещере, — и ту и другую по сей день показывают паломникам. Просто удивительно, что все эти великие события произошли в пещерах, и притом это поразительное счастье, ибо самые крепкие дома со временем неизбежно рушатся, а пещера в скале останется на веки вечные. Все эти пещеры — сплошной обман, но человечество должно быть благодарно за него католикам. Стоит им разыскать место, освященное каким-либо из событий, упоминаемых в писании, и они тотчас воздвигают здесь прочный, на века рассчитанный храм и сохраняют память об этом месте для благодарных потомков. Если бы этот в высшей степени достойный труд выпал на долю протестантам, мы бы сегодня и не знали, где стоял Иерусалим, а человек, который сумел бы отыскать Назарет, был бы, конечно, наделен сверхъестественной мудростью. Человечество благодарно католикам за их добрые дела, даже за их ловкое мошенничество с этими высеченными в скалах поддельными пещерами, — ибо куда приятнее смотреть на пещеру, в которой, как веками свято верили люди, некогда жила богородица, чем пытаться вообразить себе ее жилище где-то в Назарете: то ли там, то ли тут, а где — в точности неизвестно. Слишком велик простор для воображения, ему трудно сделать выбор. Ничто не приковывает взора, не привлекает внимания, не заставляет задуматься. У нас, в Америке, будут помнить отцов-пилигримов[191], пока не переведется названная в их честь плимутрокская порода кур. Монахи — мудрое племя, они знают, как навечно пригвоздить к месту милое сердцу предание.
Мы побывали там, где Иисус пятнадцать лет плотничал и где он пытался проповедовать в синагоге и был изгнан чернью. И тут и там стоят католические часовни и охраняют уцелевшие обломки древних стен. Наши паломники откололи от них по кусочку. Мы побывали также в новой часовне, среди города, построенной над каменной глыбой футов двенадцати в длину и четырех в поперечнике: несколько лет назад священники открыли, что однажды, возвращаясь из Капернаума, апостолы отдыхали на этом камне. Они поспешили позаботиться о сохранности этой реликвии. Подобные реликвии — выгодная недвижимость. Странно было бы, если бы путешественники любовались ею даром, и они в самом деле охотно платят за это удовольствие. И мы тоже не возражали. Всякому приятно сознавать, что он уплатил все, что с него причитается. Наши паломники уже готовы были достать из своих запасов сажу и трафареты и украсить этот камень своими именами вкупе с названиями американских городишек, откуда они родом, но здешние священнослужители ничего такого не разрешают. Однако, если говорить чистую правду, этим мои спутники грешат редко, хотя среди пассажиров «Квакер-Сити» есть и такие, которые никогда не упустят случая увековечить свое имя. Главный грех наших паломников — страсть коллекционировать «образцы». Я полагаю, что они уже знают размеры этого камня с точностью до одного дюйма и его вес с точностью до тонны, — и смело могу поручиться, что ночью они вернутся и попробуют утащить его.
Источник богородицы — это тот колодец, к которому, как говорит предание, Мария в юности по двадцать раз на день ходила по воду. Вода течет из трубы, вмазанной в стену древней кладки, стоящую поодаль от деревни. Девушки Назарета и по сей день десятками сходятся здесь и громко хохочут и проказничают. Юные назареянки нехороши собой. У некоторых большие блестящие глаза, но мы не встретили ни одного милого личика. Всю их одежду составляет обычно свободный бесформенный балахон какого-то неопределенного цвета и притом изношенный до дыр. С макушки к подбородку у них, как и у модниц Тивериады, свешиваются нанизанные на проволоку старые монеты, на запястьях медные браслеты, в ушах медные серьги. Башмаков и чулок они не носят. Из всех девушек, каких мы встречали в этой стране, назаретянки самые приятные и добродушные. Но, как ни печально, эти живописные девы некрасивы.
Один наш паломник, по прозвищу Энтузиаст, сказал:
— Взгляните на эту высокую, грациозную девушку! Какое прекрасное лицо, настоящая мадонна!
Вскоре подошел другой паломник и сказал:
— Посмотрите на эту высокую, грациозную девушку — какое царственное изящество в ее прекрасном лице! Настоящая мадонна.
Я сказал:
— Она вовсе не высокая, а маленькая; она нехороша собой, она некрасива; она довольно изящна, согласен, но уж очень шумлива.
Вскоре подошел третий — последний паломник и сказал:
— Ах, какая высокая, грациозная девушка! Что за царственное изящество, ведь это настоящая мадонна!
Таков был их единодушный приговор. Теперь пора обратиться к авторитетному источнику, из которого они почерпнули свои мнения. Вот строки, которые я нашел. А кто их написал? Вильям С. Граймс:
«Вскочив на коней, мы поехали к источнику, чтобы в последний раз поглядеть на назареянок, самых миловидных женщин из всех, которых мы встречали на Востоке. Когда мы приблизились к толпе, высокая девушка лет двадцати выступила вперед и подала Мириам чашу с водой. Движения ее были исполнены царственной грации. «Да это же настоящая мадонна!»— воскликнули мы. Уайтли вдруг почувствовал жажду, попросил, чтобы ему дали воды, и медленно выпил ее, глядя поверх чаши в большие черные глаза девушки, которая глядела на него с таким же любопытством, как и он на нее. Потом Моррайт тоже захотел напиться. Она подала воды и ему, и он сумел расплескать воду и попросил еще; к тому времени, как она подошла ко мне, она уже разгадала нашу хитрость, и когда она поглядела на меня, глаза ее смеялись. Я расхохотался, и она ответила мне таким звонким, веселым смехом, каким смеется любая сельская девушка на моей родине. Мне бы хотелось иметь ее портрет. Мадонна, списанная с этой назареянской красавицы, была бы «прекрасна несказанно» и «вечно радовала бы глаз»[192].
Вот таким сладким вздором о Палестине пичкают читателей веками. Читайте про красоту индейца у Фенимора Купера, а про красоту арабов — у Граймса. Красивый араб не редкость, но арабские женщины далеко не красавицы. Мы все верим, что дева Мария была прекрасна, было бы противоестественно думать иначе; но разве из этого следует, что наш долг находить прекрасными современных назареянок?
Люблю цитировать Граймса — он так драматичен. И так романтичен. И, видно, мало заботится о том, правду ли он говорит, — его дело попугать читателя, пробудить в нем зависть или восхищение.
Он проехал по этой мирной земле с револьвером в одной руке и с носовым платком в другой. И всякую минуту он готов был либо пролить слезу над каким-нибудь клочком Святой Земли, либо пристрелить араба. С тех пор, как скончался Мюнхгаузен, ни один путешественник, ни в Палестине, ни где бы то ни было еще, не переживал стольких поразительнейших приключений.
В Бейт-Джине, где никто его и пальцем не тронул, Граймс среди глубокой ночи потихоньку выбрался из шатра и выстрелил во что-то, что принял за араба, притаившегося поодаль на скале и злоумышлявшего против него. Пуля поразила волка. Но прежде чем выстрелить, он, по обыкновению, становится в драматическую позу, дабы напугать читателя.
«Была ли то игра воображения, или я в самом деле увидел, как что-то движется на скале? Если это человек, почему он не уложил меня на месте? В своем черном бурнусе на фоне белой палатки я был отличной мишенью. Я уже чувствовал, как пуля вонзается мне в горло, в грудь, в мозг».
Это ли не храбрец!
На пути к Геннисарету они увидали двух бедуинов и — «мы взялись за свои пистолеты и незаметно вынули их из-за кушака» и т. д. Несокрушимое хладнокровие!
В Самарии он взял приступом гору, хотя навстречу ему летели тучи камней; он выстрелил в толпу, закидавшую его камнями. Вот что он пишет:
«Я никогда не упускал случая показать арабам, сколь совершенно американское и английское оружие и как опасно нападать на вооруженных франков. Я думаю, этот выстрел кое-чему научил их».
В Бейтине он жестоко отчитал своих погонщиков арабов и затем —
«Я торжественно поклялся себе, что если кто-либо из них осмелится снова не исполнить моего приказания, я задам виновному такую порку, какая ему и во сне не снилась, а если не найду виноватого, высеку их всех до единого; и если поблизости не окажется губернатора, чтобы заняться этим, я сделаю это собственноручно».
Поистине, этот человек не знает страха.
Отвесной тропой, пробитой в скалах от замка Баниаса к дубовой роще, он скакал галопом; что ни прыжок — тридцать футов! Я готов представить тридцать надежных свидетелей, которые подтвердят, что знаменитый подвиг Путнэма[193] в Хорснэке безделица по сравнению с этим.
Взгляните — вот он, как всегда в эффектной позе, взирает на Иерусалим, только на сей раз по оплошности он забыл взять в руки пистолет.
«Я стоял на дороге, положив руку на холку коня, и затуманенным взором пытался различить очертания священных мест, которые задолго до этой минуты запечатлелись в моей душе, но слезы лились потоками и застилали мне глаза. Со мной были и слуги мусульмане, и католический монах, и два армянина, и еврей — и все как один глядели на город полными слез глазами».
Если уж католические монахи и арабы плакали, то я глубоко убежден, что и лошади тоже плакали, и, таким образом, картина была совершенно законченная.
Но когда того требует необходимость, Граймс может быть тверд, как алмаз. В Ливанской долине один молодой араб — христианин (мусульмане, как не преминул пояснить Граймс, никогда не воруют) — украл у него пороха и дроби на какие-нибудь десять долларов. Граймс обличил его перед лицом шейха и присутствовал при том, как беднягу жестоко били палками по пяткам. Послушайте его самого:
«В мгновение ока Мусу повалили на спину; он выл, кричал, вопил, но его подтащили к площадке перед дверьми, чтобы мы видели казнь, и положили лицом вниз. Один сел ему на спину, другой на ноги и поднял ступни, а третий хлестал по голым пяткам плетью из шкуры носорога, которая при каждом взмахе со свистом рассекала воздух. Бедный Моррайт страдал нестерпимо. Нама и Нама Вторая (мать и сестра Мусы) пали ниц и молили и причитали, обнимая то мои колени, то Уайтли, а брат, стоявший поодаль, оглашал воздух криками еще более пронзительными, чем Муса. Даже Юсуф пришел и на коленях просил меня смягчиться, наконец появился Битуни — у негодяя пропал мешок с едой в их доме, и утром он громче всех требовал, чтобы вор был наказан, а теперь умолял Какпоживая смилостивиться над Мусой».
Но куда там! Наказание приостановили на пятнадцатом ударе, чтобы выслушать признание виновного. Потом Граймс и его спутники поехали дальше, оставив всю эту христианскую семью во власти мусульманского шейха, чтобы он оштрафовал ее и примерно наказал по своему усмотрению.
«Когда я вскочил на коня, Юсуф снова стал молить меня вмешаться и пощадить их, но я поглядел на окружившую меня темнолицую толпу и не нашел в своем сердце ни капли жалости к ним».
Он довершает картину вспышкой буйного веселья, которая превосходно оттеняет горе матери и ее детей.
Еще одна выдержка:
«Потом я снова склонил голову. В Палестине не стыдно плакать. Я плакал, увидав Иерусалим, плакал, когда лежал под звездами в Вифлееме, плакал на благословенных берегах моря Галилейского. Я не ослабил поводьев, и палец мой не дрогнул на курке пистолета, который я держал в правой руке, когда я ехал берегом синего моря (проливая слезы. — М. Т.). Слезы эти не туманили мой взор, и сердце мое было по-прежнему неуязвимо. Пусть тот, кому смешны мои чувства, закроет книгу и не читает дальше, ибо мои странствия по Святой Земле придутся ему не по вкусу».
Одним словом, с ним не соскучишься.
Я отдаю себе отчет в том, что слишком много места уделил книге мистера Граймса. Однако говорить о ней вполне уместно и законно, ибо «Бродячая жизнь в Палестине» — книга весьма показательная, она представляет целую категорию книг о Палестине, и вынести суждение о ней — значит, вынести суждение обо всех этих книгах. И поскольку я говорю о ней, как об одной из многих книг, я позволил себе дать ей вымышленное название и автору ее вымышленное имя. Пожалуй, это всего тактичнее.
Глава XXIV. Детство Спасителя. — Дом аендорской волшебницы. — Наин. — «Вольный сын пустыни». — Древний Изреель. — Подвиги Ииуя. — Самария и ее знаменитая осада.
Назарет представляет для нас особый интерес, ибо он кажется в точности таким, каким был во времена Иисуса, и то и дело говоришь себе: «Иисус ребенком стоял в этих дверях... играл на этой улице... касался этих камней... бродил по этим меловым холмам». Если кто-либо увлекательно напишет о детстве Иисуса, книгу его с живым интересом прочтут и стар и млад. Я сужу по тому, что Назарет заинтересовал нас куда больше, чем Капернаум и море Галилейское. Стоя у моря Галилейского, можно лишь смутно представить себе величественный образ того, кто шествовал по гребням волн, как по твердой земле, и прикосновением своим воскрешал мертвых. Среди своих записок я нашел и с новым интересом перечитал заголовки некоторых глав, выписанные из Апокрифического Нового завета[194], издания 1621 года. Выдержка:
Новобрачная, которую волшебники лишили дара речи, поцеловала Христа и исцелилась. Девушка, больная проказой, исцелилась водой, в которой купали младенца Христа, и стала прислужницей Иосифа и Марии. Прокаженный сын князя исцеляется тем же способом.
Юноша, колдовством обращенный в мула, чудесным образом исцеляется, когда на его спину сажают младенца Христа, и женится на девушке, исцеленной от проказы. После чего все очевидцы возносят хвалу Господу.
Глава 16. Христос чудесным образом расширяет или суживает ворота, подойники, сита и ящики, испорченные Иосифом, который был не слишком искусным плотником. Царь иерусалимский заказывает Иосифу трон. Иосиф трудится над ним два года и делает его на две пяди уже, чем нужно. Царь гневается на Иосифа, но Иисус успокаивает его — велит ему тянуть трон в одну сторону, а сам тянет в другую, и трон становится надлежащих размеров.
Глава 19. Иисус, обвиненный в том, что он сбросил мальчика с крыши дома, чудесным образом заставляет мертвого мальчика заговорить и оправдать его; посланный матерью за водой, он разбивает кувшин, чудесным образом собирает воду в свой плащ и приносит ее домой.
Посланный к учителю, он отказывается ответить урок, учитель хочет высечь его, но у него отсыхает рука.
Далее в этой удивительной книге отвергнутых свидетельств помещено послание святого Климентия коринфянам, которое четырнадцать-пятнадцать веков назад считалось подлинным. В нем есть такой рассказ о сказочном фениксе:
1. Рассмотрим тот поразительный пример воскресения из мертвых, который известен в странах Востока, иными словами — в Аравии.
2. Существует птица, называемая феникс. В целом свете в одно время существует только одна такая птица, и век ее пятьсот лет. На исходе отпущенного ей срока, чувствуя приближение смерти, она вьет себе гнездо из ладана, мирры и других снадобий, и когда пробьет ее час, входит в гнездо и умирает.
3. Но плоть ее, разлагаясь, рождает червя, и, вскормленный соками умершей птицы, он покрывается перьями; и растет он, и, достигнув зрелости, поднимает гнездо, где лежат кости его родителя, и уносит его из Аравии в Египет, в город, называемый Гелиополис.
4. Прилетев в Гелиополис при свете дня, на глазах у всех людей, он кладет гнездо на алтарь солнца и так возвращает родителя своего туда, где было ему начало.
5. Тогда жрецы раскрывают летописи и узнают, что он вернулся точно на исходе пяти сотен лег.
Дело есть дело, и точность — великое достоинство, особенно когда речь идет о фениксе.
Немногие главы, относящиеся к младенчеству Спасителя, повествуют о пустяках, не стоящих того, чтобы их сохранять. Однако значительная часть этой книги мало чем отличается от подлинного Священного Писания. Есть в ней один стих, который ни в коем случае не следовало отвергать, ибо он со всей очевидностью пророчествует о членах конгресса Соединенных Штатов.
199. Они ставят себя высоко и мнят себя мужами рассудительными; и хоть они глупы, но хотят всех уверить, что они призваны учить других.
Я выписал эти строки, не изменив ни единого слова. Повсюду в соборах Англии, Франции и Италии можно услыхать предания о личностях, которых нет в Библии, и о чудесах, которые не упоминаются на ее страницах. Но все они есть в этом Апокрифическом Новом завете, и хотя они не вошли в нашу современную Библию, утверждают, что двенадцать — пятнадцать веков тому назад никто не сомневался в их истинности и в них верили так же свято, как во все остальное. И прежде нежели посещать эти высокочтимые соборы, где хранятся сокровища запретных и забытых преданий, необходимо прочесть эту книгу.
В Назарете нам навязали еще одного разбойника, еще одного непобедимого стража-араба. Мы бросили последний взгляд на город, прилепившийся к склону горы, точно побеленное осиное гнездо, и в восемь часов утра отправились в путь. Мы спешились и повели лошадей по горной тропе, которая, на мой взгляд, ничем не отличалась от штопора; она падала, как самая крутая радуга, и, по-моему, нет во всем мире дороги хуже, кроме разве той на Сандвичевых островах, которую я вспоминаю с ужасом, да еще одной-двух горных троп в Сиерра-Неваде. На этой узкой тропинке лошади то и дело приходилось балансировать на неровной каменной ступени и, обретя равновесие, прыгать передними ногами на следующую ступень, которая ниже первой чуть не на половину лошадиного роста. Носом она едва не упирается в землю, хвост устремлен в небеса, и со стороны может показаться, что она вот-вот станет на голову. В такой позе лошади трудно сохранить достоинство. Наконец мучительный спуск остался позади, и мы рысью пустились по великой Ездрилонской равнине.
На этих дорогах иным из нас, без сомнения, суж-дена пуля. Паломники читают «Бродячую жизнь» и чувствуют себя отважными донкихотами. Их руки словно приросли к пистолетам, и то и дело, когда меньше всего этого ждешь, они выхватывают пистолеты и целятся в бедуинов, которых и в помине нет, и, вытащив ножи, неистово размахивают ими на страх другим несуществующим бедуинам. Мне непрестанно грозит смертельная опасность, ибо порывы эти внезапны и беспорядочны и невозможно угадать, когда именно нужно убираться с дороги. Если во время этих романтических безумств кто-либо из паломников ненароком прикончит меня, мистера Граймса следует со всей строгостью призвать к ответу как прямого соучастника убийства. Если паломник старательно прицелится в кого-нибудь и выстрелит, от этого не будет никакой беды — человеку этому не грозит ни малейшая опасность, но вот против их случайных выпадов я решительно возражаю. Не желаю я больше видеть мест, подобных Ездрилону, где перед вами ровная дорога и можно пустить лошадей вскачь. От этого паломникам в голову ударяет всякий романтический вздор. Вы трусите полегоньку под солнышком, и мысли ваши далеко-далеко отсюда, — и вдруг они налетают на вас вихрем, с дикими воплями, так отчаянно пришпоривая своих несчастных кляч, что стремена взлетают чуть не выше головы; и когда они проносятся мимо, кто-нибудь выхватывает свой пугач, что-то щелкает, и вы шарахаетесь от просвистевшей над ухом пули. Раз уж я отправился в это странствие, я намерен довести дело до конца, хотя, по правде говоря, одна лишь безрассудная отвага заставляет меня все еще продолжать путь. Я ничего не имею против бедуинов — я не боюсь их, ибо ни разу не заметил, чтобы какой-либо бедуин или простой араб злоумышлял против нас, но вот кого я по-настоящему боюсь, так это моих спутников.
Пересекши равнину, мы одолели небольшой подъем и оказались в Аендоре, известном своей волшебницей. Ее потомки живут здесь и поныне. Никогда еще мы не встречали таких неистовых полуголых дикарей. Они высыпали из глиняных ульев, из лачуг, похожих на ящики из-под галантерейного товара, из пещер, зияющих под навесами скал, из каких-то ям и расщелин, точно из-под земли. В пять минут уединения и безмолвия как не бывало: оглушая нас мольбами, воплями, криками, толпа сгрудилась вокруг лошадей, не давая им шагу ступить. «Бакшиш! Бакшиш! Бакшиш! Какпоживай, бакшиш!» Всё как в Магдале, только здесь глаза язычников горят злобой и ненавистью. В Аендоре двести пятьдесят жителей, и большая половина их обитает в пещерах. Грязь, вырождение и дикость отличают селение Аендор. Мы больше не будем говорить о Магдале и Девурье. Аендор превзошел их. Он хуже любого индейского поселка. Гора голая, каменистая и угрюмая. Здесь нет ни травинки и растет лишь одно-единственное дерево — это смоковница, которая отвоевала для себя ненадежную площадку меж скал у входа в мрачную пещеру, где некогда жила сама аендорская волшебница. В этой пещере, говорит предание, в полночный час сидел царь Саул и, трепеща, вглядывался в темноту, и земля дрожала, и в горах грохотал гром, и из огня и дыма поднялся дух умершего пророка и предстал перед ним. Саул прокрался сюда во тьме, когда воины его спали, дабы узнать, что уготовано ему судьбой в грядущей битве. И он ушел отсюда с печалью в сердце, навстречу бесчестью и смерти.
В глубине угрюмой пещеры пробивался ручеек, а нас мучила жажда. Но жители Аендора не пожелали пустить нас туда. Им все нипочем — грязь, лохмотья, паразиты, варварское невежество и дикость, полуголодное существование, но они во что бы то ни стало хотят остаться чистыми и непорочными перед лицом своего бога, кто бы он ни был, а потому содрогаются и бледнеют при одной мысли о том, что христианские уста осквернят родник, чьи воды предназначены для их освященных глоток. Мы вовсе не собирались оскорблять их чувства или не считаться с их предрассудками, но уже в этот ранний час у нас вышла вся вода, и мы сгорали от жажды. Именно здесь и при таких обстоятельствах я изрек афоризм, вскоре ставший знаменитым. Я сказал: «Нужда не знает законов». Мы вошли в пещеру и напились.
Наконец мы выбрались из толпы этих крикливых попрошаек; мы взбирались все выше в гору, и они отставали от нас понемногу — сперва старики, потом малые дети, за ними девушки; мужчины покрепче бежали за нами добрую милю и отстали, лишь получив последний пиастр и поняв, что больше никакого бакшиша не будет.
Через час мы уже были в Наине, где Христос воскресил сына вдовы. Наин — это маленькая Магдала. Жителей здесь очень мало. В сотне ярдов отсюда находится то самое кладбище, куда несли покойника; могильные камни, как принято у евреев в Сирии, лежат на земле плашмя, — вероятно, мусульмане не позволяют ставить их. Мусульманская гробница обычно грубо оштукатурена и побелена, и на одном конце ее стоит кое-как обтесанный камень — жалкое подобие украшения. В городах могилы зачастую имеют совсем уж непривычный вид: высокие и узкие мраморные надгробия со сложными надписями, золоченые и разрисованные, стоят на том месте, где похоронен человек, и каждое увенчано искусно изваянной чалмой, по которой сразу видно, какое положение занимал покойный при жизни.
Нам показали остаток древней стены, — говорят, она примыкала к воротам, из которых много веков назад выносили умершего сына вдовы, когда Иисус повстречал похоронную процессию:
Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.
Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.
И подошел, прикоснулся к одру; несшие остановились; и он сказал: юноша! Тебе говорю, встань.
Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.
И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой.
На месте, где, как гласит предание, было жилище вдовы, стоит небольшая мечеть. Два старых араба сидели у порога. Мы вошли, и наши паломники отбили по кусочку от цоколя, хотя для этого им пришлось коснуться молитвенных ковриков и даже ступить на них. Это было все равно что отбить по куску от сердца каждого из этих стариков. Не сняв обуви, варварски наступить на священный коврик, чего не позволит себе ни один араб, — значило причинить боль людям, не сделавшим нам никакого зла. Что, если бы орава вооруженных чужеземцев вломилась в сельскую церковь в Америке и, ради того чтобы пополнить свои коллекции, стала топтать Библию, отбивать по кусочку от решетки алтаря и от кафедры? Впрочем, тут есть разница. Одно дело осквернение нашего храма, другое — осквернение языческого.
Мы снова спустились на равнину и на минутку задержались у колодца времен Авраама — никак не новее. Место здесь пустынное. Колодец обнесен стеною высотой в три фута, сложенной из массивных, грубо обтесанных каменных глыб, — совсем как на картинках в Библии. К колодцу сошлись верблюды; одни стояли, другие опустились на колени. Тут же кучки невозмутимых осликов; голые смуглые дети бегают вокруг них, садятся на них верхом, дергают их за хвост. Босые девушки, бронзово-смуглые и черноглазые, в лохмотьях, но с медными браслетами и грошовыми серьгами, несут на головах кувшины с водой или черпают воду из колодца. В стороне стадо овец дожидается, пока пастухи наполнят водою выдолбленные камни и можно будет напиться: камни эти, как и те, которыми обнесен колодец, гладко отполированы мордами многих поколений томимых жаждою животных, тершихся о них. Тут и там живописные арабы, усевшись в кружок прямо на земле, важно курят свои трубки с длинными чубуками, другие наливают воду в черные бурдюки из овечьих шкур, наполняют их до отказа, и они раздуваются так, что короткие ножки нелепо растопыриваются, — эти бурдюки напоминают распухших баранов-утопленников. Вот он, Восток, которым я тысячи раз восхищался, любуясь богатой игрой света и тени на гравюрах. Но на гравюрах нет ни запустения, ни грязи, ни лохмотьев, ни блох, ни уродливых лиц, ни гноящихся глаз, ни пирующих мух, ни порожденной невежеством тупости во взгляде, ни стертых до живого мяса ослиных спин, ни раздражающей и непонятной болтовни на незнакомых наречиях, ни зловония, исходящего от верблюдов, ни мыслей о том, что, если б подложить под все это тонну-другую пороха и запалить его, получилось бы куда эффектнее, — и эту радующую глаз картину можно было бы вспоминать с удовольствием, проживи мы хоть тысячу лет.
На гравюрах Восток выглядит куда приятнее. Отныне меня уже не обманешь картиной, изображающей встречу Соломона с царицей Савской. Сударыня, скажу я про себя, вы очень хороши, но ноги у вас не слишком чистые, и пахнет от вас, как от верблюда.
Вдруг грозный араб, приведший караван верблюдов, узнал в нашем Фергюсоне старого приятеля; они кинулись друг другу на шею и расцеловали друг друга в обе щеки, заросшие грязными бородами. Тут я понял то, что всегда казалось мне лишь плодом восточного красноречия. Я говорю о том случае, когда Христос упрекнул фарисея или еще кого-то в том, что он «не дал ему целования». Мне казалось маловероятным, чтобы мужчины ни с того ни с сего целовались, но теперь я знаю, что здесь они целуются. И на то есть веские причины. Обычай этот вполне естественный и понятный: людям свойственно целоваться; но вряд ли кто-нибудь по доброй воле согласится целовать здешних женщин. Чем больше путешествуешь, тем больше узнаешь. С каждым днем все новые библейские изречения, прежде для меня ничего не значившие, обретают смысл.
Мы объехали подножье горы Малый Хермон, миновали твердыню крестоносцев Эль Фуле и прибыли в Сонам. Это еще одна вылитая Магдала—та же стенная роспись, все то же. Предание гласит, что здесь родился пророк Самуил и одна здешняя жительница построила на городской стене убежище для пророка Елисея. Пророк спросил, какого она ждет вознаграждения. Вполне естественный вопрос, ибо здешний народ с тех далеких времен и поныне сперва навязывается со своими благодеяниями и услугами, а потом ждет и выпрашивает за них плату. Елисей хорошо это знал. Он и помыслить не мог, чтобы кто-то построил для него это скромное жилище совершенно бескорыстно, из одной только старой дружбы. Мне всегда казалось, что Елисей поступил весьма неучтиво, чтобы не сказать грубо, задав этой женщине подобный вопрос, но теперь я так не думаю. Женщина ответила, что ей ничего не надо. Тогда за ее доброту и бескорыстие он обрадовал ее вестью, что она понесет сына. Это была щедрая награда — за дочь она бы его не поблагодарила: дочери здесь всегда были не в чести. Сын родился, рос, набирался сил и умер. И здесь, в Сонаме, Елисей воскресил его.
Мы наткнулись на лимонную рощу — она прохладная, тенистая, все ветви отягощены плодами. Когда красоту видишь редко, готов найти ее и там, где ее нет, но мне эта роща показалась поистине прекрасной. И она была прекрасна. Я не преувеличиваю. Я всегда буду вспоминать Сонам с благодарностью: после долгой томительной езды по жаре деревья укрыли нас в своей густой тени. Мы позавтракали, отдохнули, поболтали, выкурили трубки — так прошел час, потом мы сели на лошадей и поехали дальше.
Пересекая рысцой равнину Изреельскую, мы повстречали с полдюжины бедуинов, очень похожих на индейцев, — размахивая длиннейшими копьями, они гарцевали на старых костлявых клячах и пронзали воображаемого врага; лохмотья их развевались по ветру, они гикали, вопили и вообще вели себя, как сумасшедшие. Вот они наконец — «дикие, вольные сыны пустыни, на своих прекрасных арабских кобылицах вихрем несущиеся по равнине», о которых мы столько читали и которых жаждали увидеть! Вот они — «живописные одежды»! Воистину, «великолепное зрелище»! Оборванные бродяги... дешевое бахвальство... «арабские кобылицы» из одних хребтов и ребер, точно музейный скелет ихтиозавра, горбатые и нескладные, как дромадер! Стоит раз взглянуть на истинного сына пустыни — и он навсегда лишится романтического ореола; стоит увидеть его коня — и почувствуешь потребность немедленно совершить акт милосердия: расседлать его, и пусть без помехи развалится на составные части.
Вскоре мы подъехали к разрушенному городу на горе, — это и был древний Изреель.
Изреель некогда был столицей, в ней жил Ахав, царь Самарии (по тем временам это было весьма обширное царство — всего вдвое меньше Род-Айленда). Неподалеку жил человек именем Навуфей, и у него был виноградник. Царь попросил у него виноградник, но тот не пожелал расстаться с ним; тогда царь предложил купить виноградник, но Навуфей и тут отказал ему. В те времена почиталось преступным за какую бы то ни было цену уступить землю, завещанную предками, — и даже если человек расставался с нею, она возвращалась к нему или к его наследникам в первый же юбилейный год[195]. Тогда царь, этот великовозрастный баловень, глубоко опечаленный, пришел домой, лег на постель и отворотился к стене. Царица, которая пользовалась такой дурной славой, что ее именем и поныне называют недостойных женщин, вошла к нему и спросила, отчего встревожен дух его, и он рассказал ей. Иезавель пообещала, что виноградник будет его; она пошла и от имени Ахава написала поддельные письма к старейшинам и знатным людям и велела им объявить пост и посадить Навуфея на первое место в народе, потом подкупить двух свидетелей, которые бы сказали, что он хулил Бога. И они сделали так, и обвиняемого вывели за городскую стену и побили камнями, и он умер. Тогда Иезавель пошла и сказала царю: «Вот, Навуфея нет в живых, встань и возьми себе виноградник». Ахав пошел в виноградник, чтобы взять его во владение. Но пророк Илия пришел к нему туда и предрек ему судьбу его и судьбу Иезавели: он сказал, что на том месте, где псы лизали кровь Навуфея, они будут лизать его кровь, и сказал еще, что псы пожрут Иезавель за стеною Изрееля. По прошествии времени царь был убит в сражении, и когда колесницу его обмывали в пруде Самарийском, псы лизали кровь его. Прошло время и Ииуй, который был царем в Израиле, по велению одного из пророков прибыл в Изреель; он вершил правосудие по обычаю того времени: убил многих царей и их подданных, а войдя в город, увидел Иезавель, которая глядела на него из окна, нарумяненная и разодетая, и велел бросить ее ему под ноги. И слуга выбросил ее, и конь Ииуя растоптал ее. Потом Ииуй сел за трапезу и, немного погодя, сказал: «Подите и предайте земле тело этой недостойной, ибо она царская дочь». Однако дух милосердия снизошел на него слишком поздно, ибо пророчество уже исполнилось — псы пожрали ее, и слуги «не нашли от нее ничего, кроме черепа, и ног, и кистей рук».
После смерти Ахава некому было защитить его семью, и Ииуй убил семьдесят его осиротевших сыновей. Потом он убил всех родственников и воспитателей детей Ахавовых, и слуг, и всех друзей его, и отдыхал от трудов своих, а потом близ Самарии встретились ему сорок два человека, и он спросил их, кто они такие; они сказали, что они братья царя иудейского. И он убил их. И, прибыв в Самарию, сказал, что покажет свою ревность о Господе; и он созвал всех священников и всех поклонявшихся Ваалу, притворившись, будто он собирается принять их веру и принести великую жертву Ваалу; когда же они оказались в таком месте, где не могли защищаться, он приказал перебить их всех до единого. После этого Ииуй, добрый сеятель веры, снова отдыхал от трудов своих.
Мы вернулись в долину и поехали к источнику Айн Иилуд. Обычно его называют источник Изреельский. Это пруд площадью футов в сто и четырех футов глубиной, куда впадает ручеек, вытекающий из-под нависшего над ним уступа скалы. Место это пустынное и уединенное. В старину здесь стоял лагерем Гедеон; позади Сонама расположились «мадианитяне и амаликитяне и жители востока», они были «в таком множестве, как саранча; верблюдам их не было числа, много-много было их, как песку на берегу моря». Иными словами, их было сто тридцать пять тысяч воинов и соответствующее количество средств передвижения.
Гедеон, всего лишь с тремястами воинов, напал на них врасплох среди ночи, а потом стоял в стороне и смотрел, как они рубили друг друга, пока не полегло их на поле сто двадцать тысяч.
Когда стало темнеть, мы расположились лагерем у Иенина, а в час ночи поднялись и двинулись дальше. На рассвете мы миновали то место, где, по самому достоверному преданию, находится ров, в который братья бросили Иосифа; около полудня, одолев одну за другой несколько горных вершин, поросших смоковницами и оливами, мы завидели милях в сорока впереди Средиземное море, потом проехали много древних библейских городов, жители которых провожали нашу христианскую процессию свирепыми взглядами и, видно, с радостью закидали бы нас камнями; и наконец приблизились к поднимающимся многочисленными уступами уродливым горам и при виде их сразу поняли, что вышли из Галилеи и наконец-то вступили в Самарию.
Мы взобрались на высокую гору, чтобы осмотреть город Самарию, откуда, быть может, была родом женщина, беседовавшая с Христом у колодца Иакова, и откуда, несомненно, происходил прославленный добрый самаритянин[196]. Говорят, Ирод Великий построил на этом месте великолепный город, — тому свидетельством, как указывают многочисленные авторы, служит великое множество грубых известняковых колонн двадцати футов высотой и двух футов в поперечнике, уродливых и по форме и по орнаменту. Во всяком случае, в древней Греции их бы не сочли прекрасными.
Жители в этом селении на редкость злобные и на днях забросали камнями две партии наших паломников, которые сами были в этом виноваты, — они вынули револьверы, хотя и не думали пускать их в ход; на Дальнем Западе это считается не слишком разумным поступком, да и где же на это станут смотреть по-другому? В новых территориях, если уж человек берег в руки оружие, он знает, что должен пустить его в ход; он должен пустить его в ход немедленно, ибо иначе его пристрелят на месте. Но наши паломники начитались Граймса.
В Самарии мы только и могли, что купить горсть древнеримских монет — франк за дюжину — да осмотреть ветхую церковь, построенную крестоносцами, и склеп, в котором некогда стоял гроб с телом Иоанна Крестителя. Святыню эту давным-давно перенесли в Геную.
Некогда, в дни пророка Елисея, Самария выдержала жестокую осаду сирийского царя. Съестные припасы стали так дороги, что «ослиная голова продавалась по восьмидесяти сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета — по пяти сиклей серебра».
Нам известно об одном случае, по которому можно ясно представить себе, какие страшные бедствия терпели в ту тяжкую пору осажденные в этих ныне разрушенных стенах. Однажды царь проходил по крепостной стене, и
женщина с воплем говорила ему: помоги, господин мой царь!.. И сказал ей царь: что тебе? И сказала она: эта женщина говорила мне: отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. И я сказала ей на другой день: отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына.
Пророк Елисей предсказал, что через сутки съестные припасы будут стоить совсем дешево, и так оно и случилось. По неизвестной причине сирийское войско сняло осаду и бежало, в город снова был открыт доступ, голод кончился, и множество бессовестных спекулянтов голубиным пометом и ослятиной разорилось.
Мы с радостью уехали из этой жаркой, пыльной деревушки и поспешили дальше. В два часа мы остановились поесть и отдохнуть в древнем Сихеме, меж исторических гор Гаризим и Гевал, с вершины которых в старину провозглашали законы, проклятия и благословения толпившимся внизу иудеям.
Глава XXV. Сихем. — Могила Иосифа. — Колодец Иакова. — Силом. — Лестница Иакова. — Рама, Бероф, могила Самуила, Бейрский источник. — В стенах Иерусалима.
Узкое ущелье, где расположен Наблус, или Сихем, прекрасно возделано, и почва здесь черноземная и необыкновенно плодородна. Оно хорошо орошается, и его пышная растительность составляет резкий контраст с обнаженными горами, которые вздымаются по обе его стороны. Одна из них — древняя Гора благословений, другая — Гора проклятий; и мудрецы, которые повсюду ищут исполнения пророчеств, воображают, будто здесь они напали на истинное чудо, а именно: Гора благословений, мол, поражает своим плодородием, а та, вторая, поразительно бесплодна. Однако мы не заметили между ними большой разницы.
Сихем знаменит тем, что в нем одно время жил патриарх Иаков, и тем, что здесь обосновались племена израилевы, отпавшие от своего народа и провозгласившие вероучение, не согласное с верой их отцов. Тысячи лет род этот жил в Сихеме как отверженный, почти не поддерживая торговых или дружеских связей с людьми иной религии и национальности. В каждом поколении их насчитывалось не больше одной-двух сотен, но они по-прежнему твердо держатся своей древней веры и соблюдают свои древние обряды и обычаи. Толкуйте после этого о древности рода, о высоком происхождении! Князья и знатные вельможи гордятся своей родословной, если могут проследить ее на протяжении нескольких жалких столетий. Не безделица ли это для горстки старинных семей Сихема, которые могут назвать всех своих праотцев по прямой линии за тысячелетия, до столь отдаленных времен, что люди, выросшие в стране, где события, происходившие двести лет назад, уже глубокая древность, теряются, не в силах этого постичь. Вот это — респектабельность, вот это древность рода, это высокое происхождение, которым не стыдно похвастать! Жалкие и гордые остатки некогда могучей общины и поныне чуждаются всего мира; они все еще живут, как жили их праотцы, — так же трудятся, так же думают, так же чувствуют и на том же клочке земли, где ничто не изменилось, совершают свои странные обряды, как то делали их предки за тридцать веков до них. С любопытством, не отрывая глаз, глядел я на каждого последыша этого удивительного народа, — так, верно, мы глазели бы на ожившего мастодонта или на мегатерия, которые существовали на заре творения и видели чудеса того таинственного мира, что был до потопа.
Среди священных архивов этой удивительной общины тщательно хранится манускрипт древнего иудейского закона, который считается самым старинным документом на земле. Он написан на тонком пергаменте, четыре или даже пять тысяч лет назад. Одним только бакшишем приобретается право взглянуть на него. В последнее время слава его несколько померкла, потому что очень многие путешественники по Палестине в своих путевых записках позволили себе усомниться в его подлинности.
К слову сказать, у первосвященника этой самаритянской общины я за солидное вознаграждение раздобыл секретный документ, еще более древний, нежели упомянутый мною манускрипт, и куда более своеобразный. Я опубликую его в самое ближайшее время, как только закончу перевод.
Здесь же, в Сихеме, Иисус Навин перед смертью дал последние наставления сынам Израиля и тайно закопал под дубом бесценное сокровище. Суеверные самаритяне так и не отважились разыскивать его: они верили, что его охраняют грозные невидимые духи.
Милях в полутора от Сихема мы остановились у подножья горы Гевал, перед небольшой квадратной площадкой, обнесенной высокими, тщательно побеленными каменными стенами. В одном конце этой площадки стоит гробница — такие обычно делают мусульмане. Это могила Иосифа. Тут уж никаких сомнений быть не может.
Умирая, Иосиф предсказал исход евреев из Египта, который произошел четыреста лет спустя. В то же время он взял со своего народа клятву, что, отправляясь в землю Ханаанскую, они унесут с собой его кости и похоронят их в древней земле его отцов. Они сдержали клятву:
И кости Иосифа, которые вынесли сыны Израилевы из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Еммора, отца Сихемова, за сто монет.
Не много найдется на земле могил, которые внушали бы такое благоговение людям разной крови и разных вероисповеданий, как могила Иосифа. «Самаритянин и иудей, мусульманин и христианин равно чтят ее и приходят поклониться ей. Это могила Иосифа, преданного сына, нежного, всепрощающего брата, праведного человека, мудрого государя и правителя. Египет чувствовал его руку — мир знает историю его жизни».
На том самом «участке поля», которые Иаков купил у сынов Еммора за сто монет, находится знаменитый колодец Иакова. Высеченный в твердой скале, он занимает площадь в девять футов и уходит на девяносто футов вглубь. Имя этой самой обыкновенной ямы, мимо которой можно пройти, не заметив ее, знакомо и привычно каждому ребенку, каждому крестьянину в самых дальних краях. Он прославленнее Парфенона, он древнее пирамид.
Это здесь сидел Иисус и беседовал с женщиной из той странной, отставшей от века самаритянской общины, о которой я уже рассказывал, и говорил ей о таинственной живой воде[197]. Если потомки знатных английских семей передают из рода в род рассказ о том, как триста лет назад тот или иной король осчастливил их предка, остановившись на день в его поместье, то уж несомненно потомки той женщины, живущие в Сихеме, все еще рассказывают с вполне простительной гордостью об этой беседе, которую их прабабка вела с христианским мессией. Вряд ли они не знают истинной цены подобной чести. Самаритяне такие же люди, как все, а людям свойственно накрепко запоминать встречи со знаменитостями.
Однажды, мстя за поруганную честь рода, сыны Иакова истребили всех жителей Сихема.
Мы распрощались с колодцем Иакова и ехали до восьми часов вечера, правда довольно медленно, ибо мы провели в седле уже девятнадцать часов и лошади наши вконец измучились. Мы далеко опередили свой обоз, и нам пришлось остановиться на ночлег в арабском селении и спать на земле. Мы могли бы провести ночь в самом большом доме, да пометали сущие пустяки: дом кишел паразитами, пол был земляной, всюду грязь, единственную спальню занимало семейство коз, а гостиную — два осла. Под открытым небом не было никаких неудобств, если не считать того, что смуглые оборванные жители обоего пола и всех возрастов расселись вокруг на корточках и, глядя на нас в упор, до полуночи громогласно судили и рядили о нас на все лады. Мы устали, и шум нам был нипочем, по, без сомнения, читатель поймет, что почти невозможно уснуть под столькими взглядами. Мы легли в десять, поднялись в два ночи и сразу двинулись в путь. Вот как тяжко приходится людям, попавшим во власть драгоманов, у которых в жизни одна цель — обскакать друг друга.
На рассвете мы проехали Силом, где триста лет хранился ковчег завета и у чьих ворот бедный старый Илий упал и «сломал себе хребет»[198], когда вестник, прискакавший в город с поля битвы, сообщил ему о поражении его народа, о смерти его сыновей и, главное, о том, что в руки врага попала гордость Израиля, его надежда на спасение: древний ковчег завета, вынесенный его предками из Египта. Нечего удивляться, что, услыхав все это, он упал со своего седалища и сломал себе хребет. Но Силом ничем не прельстил нас. Мы так прозябли, что лишь движение могло хоть немного согреть нас, и так хотели спать, что едва держались в седле.
Немного погодя мы подъехали к бесформенной груде развалин, которая все еще называется Вефилем. Здесь лежал Иаков, когда в чудесном видении явились ему ангелы, устремляющиеся вниз и вверх по лестнице, спущенной с облаков на землю, и через растворенные врата небесные заглянул в их благословенное жилище.
Паломники подобрали то, что еще оставалось от священных руин, и мы двинулись к цели нашего крестового похода — к прославленному Иерусалиму.
Чем дальше мы ехали, тем яростнее пекло солнце, и окрест расстилалась все более каменистая, голая, мрачная и угрюмая местность. Если бы здесь на каждых десяти квадратных футах сто лет кряду трудилось бы по камнерезу, и то этот уголок земли не был бы так густо усеян осколками и обломками камня. Нигде ни травинки, ни кустика. Даже оливы и кактусы, верные друзья бесплодной земли, почти вывелись в этом краю. На свете не сыщешь пейзажа тоскливей и безрадостней, чем тот, что окружает Иерусалим. Дорога отличается от пустыни, по которой она пролегает, лишь тем, что она, пожалуй, еще гуще усеяна камнями.
Мы проехали Раму и Бероф и по правую руку увидели могилу пророка Самуила, прилепившуюся к выступу скалы. А Иерусалим все еще не показывался. Мы нетерпеливо погоняли лошадей. Лишь па минутку остановились у древнего Бейрского источника, но камни его, стертые и отполированные мордами мучимых жаждой животных, обратившихся в прах много веков назад, нимало не интересовали нас — нам не терпелось увидеть Иерусалим. Пришпоривая лошадей, мы одолевали подъем за подъемом и, еще не достигнув вершины, каждый раз начинали вытягивать шею, но нас неизменно ждало разочарование: впереди снова дурацкие горы, снова безобразная каменистая пустыня, а священного города все нет как нет.
Наконец к полудню вдоль дороги потянулись остатки древних стен и разрушенных арок; мы взяли еще один подъем — и шляпы всех паломников и всех грешников взлетели в воздух: Иерусалим!
Вот он теснится на этих вечных холмах и сверкает на солнце, чтимый народами древний город, весь белый, со множеством куполов, надежно построенный, окруженный высокой серой стеной. Какой он маленький! Да ведь он не больше какого-нибудь американского поселка с четырьмя тысячами жителей, не больше самого обыкновенного сирийского города с населением в тридцать тысяч. В Иерусалиме всего четырнадцать тысяч жителей.
Мы спешились и целый час, а то и больше, не обменявшись за это время и десятком слов, глядели на город, от которого нас еще отделяла широкая долина; мы отыскивали взглядом места, которые по картинкам знакомы каждому со школьных лет и уже не забываются до самой смерти. Вот Журавлиная башня, мечеть Омара, Дамасские ворога, гора Елеонская[199], долина Иосафата[200], башня Давида[201], Гефсиманский сад — по этим вехам мы уже могли определить, где находятся многие места и здания, которые не видны отсюда.
Я должен здесь отметить тот поразительный, но отнюдь не позорный факт, что даже наши паломники и те не плакали. Наверно, у каждого из нас в голове теснились мысли, образы и воспоминания, навеянные славной историей освященного веками города, лежавшего перед нами, и, однако, не раздалось ни одного рыдания.
Не плакать нам хотелось. Слезы были бы здесь неуместны. Иерусалим настраивает на размышления возвышенные, исполненные поэзии, а главное — достоинства. Таким мыслям не подобают ребяческие порывы.
Вскоре после полудня через древние и столь знаменитые Дамасские ворота мы вступили на узкие кривые улицы, и вот уже несколько часов я пытаюсь постичь, что я и в самом деле в том прославленном древнем городе, где жил Соломон, где Авраам говорил с Богом и где еще стоят стены, видевшие распятие Христа.
Глава XXVI. Описание Иерусалима. — Храм гроба Господня. — Могила Иисуса. — Монашеские плутни. — Могила Адама. — Гробница Мельхиседека. — Место распятия Христа.
Хороший ходок, выйдя за городские стены, может за час обойти весь Иерусалим. Не знаю, как еще объяснить, насколько он мал. Вид у города очень своеобразный. Он весь шишковатый от бесчисленных маленьких куполов, точно тюремная дверь, обитая гвоздями. На каждом доме до полудюжины этих каменных, выбеленных известкой куполов; широкие и приземистые, они сидят посреди плоской крыши, где по одному, а где и тесной кучкой. И когда смотришь с холма на сплошную массу домов (они так тесно жмутся друг к другу, будто здесь вовсе нет улиц и все здания срослись воедино), видишь самый шишковатый на свете город, за исключением Константинополя. Кажется, что весь он от центра и до окраин покрыт перевернутыми блюдцами. Однообразие нарушается лишь высокой мечетью Омара, Журавлиной башней и еще двумя-тремя зданиями, которые возвышаются над городом.
Дома, как правило, двухэтажные, прочной каменной кладки, побеленные или оштукатуренные, и все окна забраны выступающими далеко вперед деревянными решетками. Чтобы воспроизвести иерусалимскую улицу, достаточно подвесить к каждому окну на любой американской улочке поставленный стоймя небольшой курятник.
Улицы здесь неровно, кое-как вымощены камнем, все кривые, до того кривые, что кажется, вот-вот дома сомкнутся; и сколько бы путник ни шел по ним, его не оставляет уверенность, что ярдов через сто он упрется в тупик. Над первыми этажами многих домов выступает узкий портик, или навес, который ни на что не опирается, и я не раз видел, как, отправляясь в гости, кошка перепрыгивала через улицу с одного навеса на другой. Кошка без особого труда перепрыгнет и вдвое большее расстояние. Я упоминаю об этом, чтобы дать представление о ширине здешних улиц. Раз кошка может с легкостью перепрыгнуть улицу, едва ли нужно говорить, что карете тут не проехать. Этим экипажам нет доступа в священный город.
Население Иерусалима составляют мусульмане, евреи, греки, итальянцы, армяне, сирийцы, копты, абиссинцы, греческие католики и горсточка протестантов. Здесь, на родине христианства, эта последняя секта насчитывает всего каких-нибудь сто человек. Всевозможные оттенки и разновидности всех национальностей и языков, которые здесь в ходу, слишком многочисленны, чтобы говорить о них. Должно быть, среди четырнадцати тысяч душ, проживающих в Иерусалиме, найдутся представители всех наций, цветов кожи и наречий, сколько их есть на свете. Всюду отрепья, убожество, грязь и нищета — знаки и символы мусульманского владычества куда более верные, чем флаг с полумесяцем. Прокаженные, увечные, слепцы и юродивые осаждают вас на каждом шагу; они, как видно, знают лишь одно слово на одном языке — вечное и неизменное «бакшиш». Глядя на всех этих калек, уродов и больных, что толпятся у святых мест и не дают пройти в ворота, можно подумать, что время повернуло вспять и здесь с минуты на минуту ждут, чтобы ангел Господень сошел возмутить воду Вифезды[202]. Иерусалим мрачен, угрюм и безжизнен. Не хотел бы я здесь жить.
Первым делом каждый, разумеется, спешит поклониться гробу Господню. Он в самом городе, у западных ворот. И гроб Господень и место, где был распят Христос, и вообще все места, тесно связанные с этим потрясающим событием, весьма искусно собраны все вместе, иод одну крышу — под купол Храма святого гроба Господня.
Пробившись сквозь толпу нищих и оказавшись в церкви, вы можете увидеть слева нескольких турецких стражей — ибо христиане разных сект, дай им волю, не только переругаются, но и передерутся в этом священном месте. Прямо перед вами мраморная плита, покрывающая камень миропомазания, на котором тело Спасителя готовили к положению во гроб. Пришлось покрыть этой плитой подлинный камень, чтобы предохранить его от разрушения: уж очень усердно паломники откалывали от него по кусочку и увозили домой. Рядом с ним круглая ограда — она окружает место, на котором стояла богородица, когда совершалось помазание.
Войдя в ротонду, мы остановились перед самым священным местом христианского мира — перед гробом Иисуса. Он стоит посреди храма, под центральным куполом. Над ним воздвигнута причудливой формы часовенка из желтого и белого камня. Внутри этого маленького храма лежит обломок того самого камня, который был отвален от двери гроба и на котором сидел ангел, когда туда на рассвете пришла Мария. Низко пригнувшись, мы вошли под своды, в самый склеп. Он всего шести футов на семь, и каменное ложе, на котором покоился Спаситель, занимает всю длину склепа и половину его ширины. Оно покрыто мраморной плитой, изрядно истертой поцелуями паломников. Теперь эта плита служит алтарем. Над нею висит с полсотни золотых и серебряных лампад, в которых постоянно поддерживается огонь, и еще множество всяких безделушек, мишуры и безвкусных украшений оскорбляют гробницу.
У каждой христианской секты (за исключением протестантов) под крышей Храма святого гроба Господня есть свои особые приделы, и никто не осмеливается переступить границы чужих владений. Уже давно и окончательно доказано, что христиане не в состоянии мирно молиться все вместе у могилы Спасителя. Сирийский придел не отличается красотой. Беднее всех придел коптов — это просто мрачная пещера, грубо высеченная в скалистом подножии Голгофы; в одной стене ее высечены две древние гробницы, — как утверждают, в них погребены Никодим[203] и Иосиф из Аримафеи[204].
Проходя меж массивных контрфорсов и колонн в другую часть храма, мы набрели на группу итальянских монахов — с тупыми физиономиями, в черных рясах; в руках они держали свечи и что-то распевали по-латыни, разыгрывая какое-то религиозное действо вокруг белого мраморного круга, вделанного в пол. На этом самом месте воскресший Спаситель явился Марии Магдалине в образе садовника. Рядом вделан другой камень, в форме звезды, — здесь стояла в ту минуту Мария Магдалина. И вокруг этого места монахи тоже ходили с пением. Они священнодействуют везде и всюду — в каждом уголке просторного здания, в любое время дня и ночи. Всегда во мраке мелькают их свечи, и от этого темный старый храм выглядит еще угрюмее, чем ему надлежит, хоть он и гробница.
Нам показали то место, где Христос явился своей матери после воскресения из мертвых. Мраморная плита лежит также и там, где святая Елена, мать императора Константина, лет через триста после распятия Спасителя, нашла кресты. Согласно преданию, эта замечательная находка вызвала всеобщее бурное ликование. Но оно было непродолжительно. Сам собой возник вопрос: на каком из этих крестов был распят Спаситель и на каких — разбойники? Терзаться сомнениями в столь важном деле, не знать точно, которому кресту надлежит поклоняться — это ужасное несчастье. Всеобщее ликование сменилось скорбью. Но разве найдется на свете хоть один служитель веры, который не сумел бы разрешить такую несложную задачу? Вскоре один из них надумал, как вернее всего узнать истину. В Иерусалиме была тяжело больна одна знатная дама. Мудрые пастыри распорядились, чтобы кресты, по одному, поднесли к ее одру. Так и сделали. Как только взгляд больной упал на первый крест, она испустила крик, который, говорят, слышен был за Дамасскими воротами и даже на горе Елеонской, и упала без памяти. Ее привели в чувство и поднесли второй крест. Тотчас с нею сделались страшные судороги, так что шестеро сильных мужчин с величайшим трудом удерживали ее. Теперь уже боялись поднести третий крест. Может быть, это вообще не те кресты, может быть того, истинного креста и нет среди них? Однако, видя, что больная того гляди умрет от терзающих ее судорог, решили, что на худой конец третий крест быстрее избавит ее от мучений. И вот поднесли третий крест. И — о, чудо! — больная вскочила с одра счастливая и сияющая, и совершенно исцеленная! Разве могли мы не уверовать в подлинность креста, услыхав о столь убедительном доказательстве? Поистине, стыдно было бы сомневаться. Ведь даже та часть Иерусалима, где это случилось, все. Еще существует. А стало быть, не остается места сомнениям.
Священнослужители пытались показать нам через небольшую сетку обломок подлинного столба бичевания, к которому привязан был Христос, когда его истязали. Но мы не могли разглядеть его, потому что за сеткой было темно. Впрочем, там есть палочка, которую паломник может просунуть сквозь отверстие в сетке, и тогда у него уже не остается никаких сомнений, что там находится подлинный столб бичевания. Было бы непростительно сомневаться, ведь он сам чувствовал, что палка уперлась в столб. Яснее нельзя было почувствовать.
Неподалеку отсюда находится ниша, в которой прежде хранили кусок подлинного креста, но теперь его там нет. Этот кусок креста открыли в шестнадцатом веке. Католическое духовенство утверждает, что давным-давно его похитили священники иной секты. Это тяжкое обвинение, но мы прекрасно знаем, что он и в самом деле был украден, ибо своими глазами видели его в нескольких итальянских и французских соборах.
Но из всех святынь нас больше всего тронул скромный старый меч отважного крестоносца Готфрида Бульонского — иерусалимского короля Готфрида. Во всем христианском мире не найти другого меча, который так привлекал бы сердца, — ни один меч из тех, что ржавеют в родовых замках Европы, не может вызвать столь романтических видений, раззвонить о стольких истинно рыцарских подвигах или поведать столь воинственные истории о битвах и сражениях далекого прошлого. Он будит давно уснувшие воспоминания о священных войнах, и в воображении встают одетые в кольчуги рыцари, маршируют армии, разыгрываются сражения, длятся осады. Он говорит нам о Балдуине[205] и Танкреде, о царственном Саладине и великом Ричарде Львиное Сердце. Такими вот клинками эти блистательные герои рыцарских романов ловко делили человека надвое, и одна половина падала в одну сторону, а другая — в другую. В те далекие времена, когда Готфрид владел этим самым мечом, он разрубил головы сотен сарацин от макушки до подбородка. Меч этот был заколдован духом, подвластным царю Соломону. Когда к шатру его господина приближалась опасность, он всякий раз ударял о щит, грозно возвещая тревогу, и повергал чуткую ночь в трепет. В часы сомнений, в тумане или во тьме Готфриду стоило вынуть меч из ножен — и он тотчас поворачивался острием в сторону врага и тем самым указывал путь и даже сам рвался из рук господина во след врагу. Как бы ни переоделся христианин, меч всегда узнает его и ни за что не тронет, и как бы ни переоделся мусульманин, меч все равно выскочит из ножен и поразит его насмерть. Истинность этих утверждений доказана многими преданиями, которые добропорядочные католические монахи хранят в числе самых достоверных. Мне теперь уже не забыть древний меч Готфрида. Я испытал его на одном мусульманине и рассек его пополам, как сдобную булку. Дух Граймса снизошел на меня, и будь у меня под рукой кладбище, я истребил бы всех язычников Иерусалима. Я отер кровь с меча и вернул его священнику, — я не хотел, чтобы свежая кровь заслонила те священные алые пятна, которые однажды, шестьсот лет тому назад, проступили на сверкающей стали, предупреждая Готфрида, что еще до захода солнца он перейдет в иной мир.
Бродя в полумраке по Храму святого гроба Господня, мы подошли к маленькому приделу, высеченному в скале, — место это испокон веков было известно под названием «Темница Христова». Предание гласит, что здесь был заключен Спаситель перед распятием. Под алтарем, у входа, стоят каменные колодки для ног. В них был закован Спаситель, и они так и называются по сей день — «узы Христа».
Греческий придел просторнее, богаче и пышнее всех остальных в Храме святого гроба Господня. Алтарь его, как и во всех греческих церквах, отделен от остального храма высоким иконостасом, который тянется поперек всего придела и так и сверкает золотом и драгоценными каменьями богатых окладов. Перед ним висит множество лампад, все они из золота и серебра и стóят больших денег.
Но гордость этого придела — невысокая колонна, поставленная посреди мощенного мрамором пола в знак того, что это и есть центр земли. Самые достоверные предания рассказывают, что это было известно давным-давно, и когда Христос пребывал на земле, он раз и навсегда рассеял все сомнения на этот счет и сам сказал, что так оно и есть. Помните, сказал он, что эта колонна возвышается над самым центром земли. И если центр переместится, то соответственно сдвинется и колонна. Колонна трижды сама собою меняла место. Происходило это потому, что трижды, в разное время, при великих потрясениях в природе громадные массы земли — по всей вероятности, целые горные гряды — улетучивались в пространство, и таким образом диаметр земли уменьшился, и центр ее сместился пункта на два. Это чрезвычайно любопытное и интересное обстоятельство — сокрушительный удар по тем философам, которые хотят нас уверить, будто никакая, даже самая малая частица земли не может улетучиться в пространство.
Чтобы убедиться, что это и есть центр земли, некий скептик однажды за щедрую плату получил разрешение подняться на купол храма и, стоя под солнцем, ровно в полдень поглядеть, отбросит ли он тень. Вниз он спустился совершенно убежденный. День был пасмурный, и солнце не показывалось, не было и тени; но скептик твердо уверился, что если бы солнце вышло и появились тени, у него самого тени не было бы. Сколько бы ни празднословили маловеры, подобных доказательств им не опровергнуть. Те, кто не закоснел в упрямом скептицизме и готов прислушаться к слову убеждения, черпают в этих доказательствах уверенность, которую уже ничто и никогда не поколеблет.
Если упрямцам и глупцам нужны еще более веские доказательства, что это и есть подлинный центр земли, — вот они. Прежде всего — из-под этой самой колонны взят был прах, из которого Бог сотворил Адама. Это, конечно, решающий довод. Ведь маловероятно, чтобы первый человек был сотворен из земли низшего качества, когда имелась полная возможность достать первосортную землю из самого центра. Это очевидно для всякого, кто способен мыслить. Бесспорно Адам был слеплен из праха, добытого именно в этом месте, это доказано хотя бы тем, что за шесть тысяч лет никто не сумел доказать, что он добыт не здесь, а где-нибудь в другом месте.
По удивительному совпадению под сводами этого великого храма, неподалеку от этой знаменитой колонны, и погребен наш прародитель Адам. Не может быть сомнений, что он действительно похоронен в могиле, которую нам показали, да и о чем тут спорить, ведь никто никогда не доказал, что он погребен не здесь.
Могила Адама! Как умилительно здесь, в чужом краю, вдали от дома, от друзей, от всех, кому ты дорог, вдруг увидеть могилу кровного родственника. Правда, далекого, но все же родственника. Я безошибочно почуял это кровное родство и затрепетал. Источник моей сыновней нежности заволновался до самых глубин, и я дал волю бьющим через край чувствам. Я прислонился к колонне и залился слезами. По-моему, ничуть не стыдно рыдать на могиле бедного, милого сердцу родича. Пусть тот, кому смешно мое волнение, закроет эту книгу, ему не придутся по вкусу мои странствия по Святой Земле. Благородный старец — ему не довелось увидеть меня... ему не довелось увидеть свое дитя. А я... мне... увы, мне не довелось увидеть его. Подавленный горем и обманутый в своих надеждах, он умер, не дождавшись моего рожденья... за шесть тысяч кратких весен до того, как я появился на свет. Но перенесем это мужественно. Будем верить, что ему лучше там, где он теперь. Утешимся мыслью, что если он и потерял на этом, то мы безусловно выиграли.
Потом гид повел нас к алтарю, воздвигнутому в честь римского солдата, одного из стражей, поддерживавших порядок во время распятия. Когда в наступившей кромешной тьме разодралась завеса храма; когда землетрясение раскололо Голгофу надвое; когда загрохотала небесная артиллерия и при грозных вспышках молний мертвецы в саванах хлынули на улицы Иерусалима, этот страж задрожал от страха и сказал: «Воистину он был сын Божий!» На том месте, где стоит сейчас алтарь, стоял тогда этот солдат, и прямо перед ним был распятый Спаситель, и от его взора и слуха не ускользнуло ни одно из чудес, случившихся на Голгофе или вокруг нее. И на том же самом месте первосвященники обезглавили его за эти кощунственные слова.
В этом алтаре прежде хранилась одна из самых поразительных святынь, какие когда-либо видел человек, — она обладала таинственной притягательной силой, от нее часами нельзя было оторвать глаз. Это не что иное, как медная табличка, которую Пилат прибил на крест Спасителя и на которой он написал: «Сей есть царь иудейский». Наверно, эту удивительную реликвию нашла святая Елена, мать Константина, когда побывала здесь в третьем веке. Она объездила всю Палестину, и ей всегда везло. Стоило этой доброй старой ревнительнице веры обнаружить в Библии, будь то Ветхий или Новый завет, упоминание о каком-либо предмете, и она тотчас отправлялась на поиски — и не отступалась, пока не находила его. Ей понадобился Адам — пожалуйста, вот он; ковчег — вот вам ковчег; Голиаф или Иисус Навин — она и их разыскала. Я уверен, что это она отыскала и надпись, о которой я только что говорил. Она нашла ее именно здесь, рядом с тем местом, где стоял пострадавший за веру римский солдат. Эта медная табличка теперь хранится в одной из церквей Рима. Всякий может увидеть ее там. Надпись видна очень ясно.
Мы прошли еще несколько шагов и оказались перед алтарем, возведенным на том самом месте, где, по словам почтенных католических патеров, солдаты делили одежды Спасителя.
Потом мы спустились в пещеру, которая, как говорят педанты и придиры, была некогда просто водоемом. Однако теперь здесь церковь — Церковь святой Елены. Она пятидесяти одного фута в длину и сорока трех в ширину. В ней сохранилось мраморное кресло, на котором сиживала Елена, надзирая за рабочими, когда они трудились, откапывая подлинный крест. Тут же воздвигнут алтарь святого Димаса, раскаявшегося разбойника. Здесь стоит и новая бронзовая статуя — статуя святой Елены. Она напомнила нам о бедняге Максимилиане, столь недавно убитом. Он преподнес эту статую в дар церкви, когда уезжал в Мексику, чтобы занять там престол.
Из водоема мы спустились на двенадцать ступеней в большой, грубо высеченный в скале грот. Он образовался после раскопок, которые производила Елена, разыскивая крест. Ей пришлось изрядно потрудиться здесь, но труды ее были щедро вознаграждены: она добыла терновый венец, гвозди с креста, честный крест и крест раскаявшегося разбойника. Она уже решила, что тут больше ничем не разживешься, но во сне ей было указание потрудиться еще денек. Это оказалось как нельзя более кстати. Она так и сделала — и нашла крест второго разбойника.
Стены и свод этого грота все еще льют горькие слезы в память события, случившегося на Голгофе, и когда эти слезы падают с мокрой скалы на головы благочестивых паломников, они тоже рыдают и плачут. Монахи назвали этот грот «Храмом измышления честного креста», — название весьма неудачное, ибо ведь профаны могут принять его за молчаливое признание, будто рассказ о том, что Елена нашла здесь честный крест, — просто вымысел. Но какое счастье сознавать, что люди просвещенные не усомнятся ни в одном слове этой истории.
Священнослужители любой секты, из любого придела Храма гроба Господня могут приходить в этот грот и плакать, и молиться, и возносить хвалы кроткому искупителю нашему. Однако представителям двух различных вероисповеданий не разрешается приходить сюда одновременно, иначе не миновать драки.
Мы еще побродили по древнему храму среди поющих монахов в длинных грубых рясах и сандалиях; среди паломников всех цветов кожи и многих национальностей в самых диковинных одеждах; под сумрачными сводами, между закопченных пилястров и колонн, в угрюмом полумраке собора, еще более густом от дыма и ладана, где мерцают десятки свечей, то появляясь, то вдруг исчезая, то проплывая взад и вперед в отдаленных приделах, словно волшебные блуждающие огоньки, — и наконец подошли к маленькой часовне, называемой «Часовня осмеяния». Под алтарем хранится обломок мраморной колонны; на него усадили Христа, когда, ругаясь над ним, в насмешку объявили его царем иудейским и венчали терновым венцом, а вместо скипетра дали ему в руки трость. Здесь завязали ему глаза, и били его по ланитам, и, издеваясь, говорили: «Прореки, кто ударил тебя?» Предание о том, что это и есть место осмеяния, очень древнее. Гид сказал нам, что первым об этом упомянул еще Сеавульф[206]. Я с ним незнаком, но как же не считаться с его свидетельством? Никто из нас на это не решится.
Нам показали место, где когда-то были похоронены Готфрид и его брат Балдуин, первые христианские короли Иерусалима, — рядом со священным гробом, за который они столь долго и столь доблестно воевали с язычниками. Но ниши, в которых некогда хранился прах этих прославленных крестоносцев, ныне пусты, даже надгробные плиты исчезли, — их уничтожили благочестивые сыны греческой церкви: та разновидность христианской веры, которую исповедовали латиняне Готфрид и Балдуин, в каких-то незначительных частностях расходилась с их собственной.
Мы прошли дальше и остановились перед гробницей Мельхиседека! Вы, конечно, помните Мельхиседека; когда Авраам нагнал у стен Дана врагов, взявших в плен Лота, и отобрал у них все имущество, не кто иной, как царь Мельхиседек, вышел ему навстречу и взял с него дань. Это было около четырех тысяч лет назад; и вскоре Мельхиседек умер. Однако гробница его отлично сохранилась.
Когда входишь в Храм святого гроба Господня, первое, что хочешь увидеть — это самый гроб, — и действительно видишь его чуть ли не прежде всего остального. Второе — это место, где распят был Спаситель. Но его не покажут до самого конца. Это венец и слава святилища. Серьезный и задумчивый стоишь в склепе Спасителя — да и каким еще тут можно быть, но весьма трудно поверить, что когда-то здесь покоился Господь, и мысли эти отнюдь не способствуют волнению, которое должно бы возбуждать это место. Вот здесь, в другой части храма, стояла Мария, здесь — Иоанн, а здесь — Мария Магдалина; там толпа злословила Господа; тут сидел ангел; а вон там нашли терновый венец и честный крест; здесь явился воскресший Спаситель. Посмотреть на все это любопытно, но при этом как и у гроба Господня, с несомненностью чувствуешь, что все это ненастоящее, что все эти святые места просто-напросто измышление монахов. Но вот место, где был распят Христос, вызывает совсем иные чувства. Всей душой веришь, что именно здесь Спаситель расстался с жизнью. Вспоминаешь, что Христос прославился задолго до того, как пришел в Иерусалим; ведь слава его была столь велика, что за ним всегда следовали толпы; его появление в Иерусалиме взволновало весь город, и встречали его восторженно: нельзя забывать, что, когда Христа распяли, в Иерусалиме очень многие верили, что он истинный сын Божий. Уже одно то, что его здесь публично казнили, должно было обессмертить это место на века; а вдобавок буря, тьма, землетрясение, разодранная завеса храма и нежданное пробуждение мертвецов — все это привело к тому, что сама казнь и место, где она свершилась, запомнились даже самым беспечным очевидцам. Отцы рассказывали сыновьям о странном происшествии и показывали место, где оно случилось; те передавали рассказ этот своим детям — так пронеслись триста лет[207]. И тут явилась Елена и воздвигла на Голгофе церковь в память о смерти и погребении Христа, дабы священное место это навеки памятно было людям; с тех пор здесь всегда стоит церковь. О том, где был распят Христос, не может быть двух мнений. Но где он был похоронен, знали всего, быть может, человек пять-шесть; и похороны не такое уж примечательное событие, поэтому простительны сомнения в подлинности гроба Господня, — не сомневаться в том, где именно он был распят, непростительно. Через пятьсот лет от памятника на Банкер-Хилле[208] не останется и следа, но Америка все равно будет знать, где разыгралась битва и где пал Уоррен[209]. Распятие Христа было слишком заметным событием для Иерусалима, и Голгофа стала слишком известна благодаря ему, чтобы об этом забыли через каких-нибудь триста лет. По крутой лестнице я взобрался на вершину скалы, где построена маленькая часовня, и смотрел на то место, где некогда стоял честный крест, с таким волнением, какого не вызывало во мне еще ничто земное. Мне не верилось, что три ямы на вершине скалы те самые, в которых когда-то были кресты, но уж наверно они были совсем близко, а какие-нибудь несколько футов расстояния не в счет.
Когда стоишь там, где распяли Спасителя, приходится напрягать все силы, чтобы не забыть, что он не был распят в католической церкви. Надо поминутно напоминать себе, что это великое событие произошло под открытым небом, а не в освещенном одними свечами темном уголке под самым куполом огромного храма, не в тесной часовенке, сверкающей драгоценными каменьями, разукрашенной пышно и крикливо, в чрезвычайно дурном вкусе.
Под похожим на стол мраморным алтарем в мраморном полу есть круглое отверстие. Под ним-то и находится яма, в которую некогда был вкопан крест. Приходя сюда, каждый паломник прежде всего опускается на колени и, взяв свечу, разглядывает эту яму. Эта своеобразная разведка ведется с такой сосредоточенностью, какой никогда не поймет и не оценит тот, кто не присутствовал при этом. Потом он поднимает свечу к висящему в алтаре над отверстием образу Спасителя, великолепно выгравированному на плите из чистого золота, ослепительно сияющему, усеянному алмазами, — и торжественная серьезность сменяется безграничным восхищением. Он встает с колен и за алтарем видит превосходно вырезанные фигуры Спасителя и разбойников, висящих на крестах, сверкающие всеми цветами радуги. Потом он поворачивается и видит богородицу и Марию Магдалину; потом — трещину в скале, образовавшуюся от землетрясения в час, когда умер Христос: продолжение ее он уже видел внизу, в стене одного из гротов; потом он видит за стеклом статую богородицы и поражается сказочному богатству ее убора, несчетным жемчугам, самоцветам и иным драгоценностям, которые покрывают ее с головы до пят. Со всех сторон кричащие украшения, на которые так щедра католическая церковь, они оскорбляют глаз, и паломник мучительно старается не забыть, что именно здесь место распятия, лобное место, Голгофа. И под конец он снова глядит на то, что в первую же минуту привлекло его взор, — на место, где стоял подлинный крест. Он уже удовлетворил свое любопытство, потерял интерес ко всему, что ему показали в этом храме, и только одно это место притягивает его, и он стоит как прикованный, не в силах отвести глаза.
Итак, я заканчиваю главу о Храме святого гроба Господня — о самом священном месте на земле для миллионов и миллионов мужчин, женщин и детей, для великих и малых, для рабов и свободных. Вся история этого храма, мысли и чувства, которые он будит в потрясенной душе, делают его самым прославленным во всем христианском мире. Вопреки всему показному, трескучему, бьющему на эффект, вопреки всем недостойным плутням, он все же остается великим, священным, почитаемым храмом, ибо здесь опочил Бог; вот уже полторы тысячи лет его святыни омываются слезами паломников, приходящих сюда из самых отдаленных земель; больше двухсот лет храбрейшие рыцари сражались, не щадя жизни, пытаясь завладеть им, чтобы язычники не могли больше осквернять его. Даже и в наши дни два народа, не желавшие уступить друг другу честь сменить купол на этом храме, вступили в войну[210], и в войне этой были загублены огромные богатства и пролиты реки крови. История полна им, этим старым Храмом святого гроба Господня, пропитана кровью, которая лилась потому, что люди слишком глубоко чтили место последнего упокоения того, кто был кроток и смиренен, милостив и благ!
Глава XXVII. Крестный путь. — Соломонов храм. — Мечеть Омара. — Здесь судили Давид и Саул. — Силоамская купель. — Гефсиманский сад.
Мы стояли в узкой улочке у башни Антония.
— На этих камнях, которые уже совсем искрошились, Спаситель отдыхал перед тем, как поднял крест, — сказал гид. — Здесь начинается крестный путь, он же путь скорби.
Мы бросили взгляд на священное место и двинулись дальше. Мы прошли под аркой «Ecce homo»[211] и увидели то самое окно, из которого жена Пилата предупредила его, чтобы он не делал ничего худого праведнику. Принимая во внимание солидный возраст этого окна, надо сказать, что оно превосходно сохранилось. Нам показали место, где Иисус отдыхал во второй раз, и площадь, где толпа отказалась отпустить его и сказала: «Кровь его надет на нас, и на детей наших, и на детей наших детей на вечные времена». Французские католики строят здесь церковь; они делают это с обычным своим почтением к историческим реликвиям, так что обломки древних стен, которые они еще застали на этом месте, скоро сольются с новыми. Немного дальше мы увидели место, где изнемогший Спаситель упал под тяжестью креста. Тогда здесь лежала толстая гранитная колонна, остаток какого-то древнего храма, и тяжелый крест ударился об нее с такой силой, что она раскололась пополам. Об этом нам поведал гид, задержав нас у расколотой колонны.
Мы перешли улицу и вскоре оказались у бывшего жилища святой Вероники. Когда Спаситель проходил здесь, она вышла ему навстречу, полная истинно женского сострадания, и, не страшась улюлюканья и угроз черни, сказала ему жалостливые слова и своим платком отерла пот с его лица. Мы столько слышали о святой Веронике, видели столько ее портретов работы самых разных мастеров, что увидать ее древний дом в Иерусалиме было все равно что неожиданно встретиться со старым другом. Но самое странное в случае со святой Вероникой, из-за чего она, собственно, и прославилась, заключается в том, что, когда она отирала пот, на ее платке отпечаталось лицо Спасителя, точный его портрет, и отпечаток этот сохранился по сей день. Мы знаем это, ибо видели этот платок в парижском соборе, в одном из соборов Испании и в двух итальянских. В Миланском соборе надо выложить пять франков, чтобы взглянуть на него, а в соборе св. Петра в Риме его почти невозможно увидеть ни за какие деньги. Ни одно предание не подтверждено столькими доказательствами, как предание о святой Веронике и ее носовом платке.
На следующем углу была глубокая выбоина в прочной каменной кладке дома, но мы, наверно, прошли бы мимо, не обратив на нее никакого внимания, если бы гид не объяснил, что она пробита локтем Спасителя, который здесь споткнулся и упал. Вскоре мы опять заметили точно такую же выбоину в каменной стене. Гид объяснил, что и здесь Спаситель упал, и это углубление — след его локтя.
Были и еще места, где Христос падал, и где он отдыхал; но одним из самых любопытных памятников древней истории, обнаруженных нами во время этой утренней прогулки по кривым улочкам, ведущим к Голгофе, был некий камень в стене дома — камень, иссеченный столькими морщинами и рубцами, что в нем было какое-то искаженное подобие человеческого лица. Выступы, соответствовавшие скулам, были начисто стерты жаркими поцелуями многих поколений паломников из дальних стран. Мы спросили: «Почему?» Гид объяснил, что это один из «тех самых камней иерусалимских», на которые сослался Христос, когда его упрекали за то, что, въезжая в город, он позволил народу кричать «Осанна!» Один из наших паломников сказал:
— Но ведь нет никаких доказательств, что камни и в самом деле завопили. Христос сказал, что если бы запретить людям кричать «Осанну», то камни возопили бы.
Гид и ухом не повел.
— Это и есть один из камней, которые возопили бы, — невозмутимо ответил он.
Сразу видно было, что нечего и пытаться поколебать простодушную веру этого молодца; все равно толку не будет.
И вот перед нами еще одно чудо, представляющее глубокий, непреходящий интерес, — тот самый дом, где некогда жил злосчастный бедняга, известный под именем Вечного жида, которого вот уже более восемнадцати столетий прославляют в стихах и прозе. В памятный день распятия он стоял подбоченясь в дверях этого самого дома и глядел на приближающуюся шумную толпу, и когда Спаситель хотел присесть на мгновение и передохнуть, он грубо оттолкнул его и сказал: «Иди, иди!» Христос сказал: «Иди и ты!» — И веление это не отменено по сей день. Всем известно, как этот злодей, на голову которого пало вполне заслуженное проклятие, век за веком скитается по всему свету, ищет покоя — и не находит, призывает смерть — но всегда тщетно, жаждет остановиться хоть где-нибудь — в городе, в пустыне, в безлюдном, диком краю — и вечно слышит все те же безжалостные слова, что гонят его вперед и вперед. Из преданий седой старины мы знаем, что, когда Тит разграбил Иерусалим и вырезал миллион сто тысяч иудеев на улицах и в переулках города, Вечного жида неизменно видели в самой гуще сражения: он склонял голову под сверкающие вокруг секиры, бросался на мечи, молниями прорезавшие воздух, подставлял обнаженную грудь под пролетавшие со свистом копья и стрелы, искал встречи с каждым оружием, которое сулило смерть, забвение, отдых. Но все было напрасно — он вышел из этой кровавой бойни без единой раны. Спустя пятьсот лет он последовал за Магометом, сеявшим смерть и разрушение в городах Аравии, а потом обратился против него, надеясь, что смерть не минет предателя. Но его расчеты снова не оправдались. Никого не миновало возмездие, кроме того единственного, кто не желал пощады. Еще через пять веков он снова искал смерти — во время крестовых походов. Он пришел в Аскалон, где свирепствовали голод и чума, — и опять уцелел. Он не мог умереть. Эти постоянные неудачи привели в конце концов к тому, что он потерял надежду на смерть. С тех пор Вечный жид лишь изредка заигрывает с самыми многообещающими средствами и орудиями уничтожения, — но, как правило, почти без всякой надежды на успех. Он делал ставку и на холеру, и на железные дороги, проявил живейший интерес к адским машинам и к патентованным лекарствам... Теперь он стар и угрюм, как и подобает в его лета, он не позволяет себе никаких легкомысленных развлечений, только иногда ходит смотреть на казни и очень любит бывать на похоронах.
Одно неминуемо: где бы он ни был, каждые пятьдесят лет он непременно должен являться в Иерусалим. Всего лишь год или два назад он был здесь в тридцать седьмой раз с тех пор, как на Голгофе распяли Христа. Говорят, многие старики, которые живы по сей день, видели его в этот раз и в предыдущий. Он совсем не меняется — старый, высохший, с ввалившимися глазами, безразличный ко всему на свете; впрочем, есть что-то в его поведении, что наводит на мысль, будто он кого-то ищет, кого-то ждет, — быть может, друзей своей юности. Но почти все они уже умерли. Одинокий он бродит по старинным улицам и то на одной стене, то на другой ставит какие-то знаки и с почти дружеским вниманием рассматривает старые строения и роняет скупые слезы у порога своего древнего жилища — очень горькие слезы. Потом он взимает арендную плату и снова уходит. Звездными ночами его часто видели у Храма святого гроба Господня, ибо долгие века он лелеял надежду, что, если бы ему удалось войти туда, он смог бы отдохнуть. Но стоит ему приблизиться — и двери с треском захлопываются, земля дрожит, все огни в Иерусалиме загораются мертвенно-синим светом. Тем не менее он делает это каждые пятьдесят лет. Безнадежная попытка, но легко ли отказаться от привычки, укрепившейся за восемнадцать столетий! Сейчас престарелый турист бродит где-то далеко отсюда. Должно быть, ему смешно смотреть на нас, на кучку болванов, которые с умным видом скачут галопом из страны в страну и воображают, будто таким образом можно постичь мир. Он, наверно, до глубины души презирает самодовольных молокососов, которые носятся по всему свету в наш век железных дорог и называют это путешествиями. Когда гид показал нам то место на стене, где Вечный жид оставил свой знак, я преисполнился изумления. Там было написано:
Отправл. — окт. 1860 г.
Все, что я сообщил о Вечном жиде, можно подтвердить множеством доказательств, обратившись за ними к нашему гиду.
Огромная мечеть Омара и мощеный двор вокруг нее занимают четверть всего Иерусалима. Она стоит на горе Мориа, где прежде был храм царя Соломона. Для магометан эта мечеть самое священное место после Мекки. Еще год-два назад христианин ни за какие деньги не мог проникнуть в мечеть или в ее двор. Но теперь запрет снят, и бакшиш без труда распахнул перед нами двери.
Не стоит говорить о поразительной красоте, изысканном изяществе и соразмерности, которыми славится эта мечеть, ибо я ничего такого не заметил. Всего этого не увидишь с первого взгляда. Ведь как хороша настоящая красавица, нередко понимаешь лишь после того, как познакомишься с нею поближе; это правило относится и к Ниагарскому водопаду, и к величественным горам, и к мечетям, — особенно к мечетям.
Самое замечательное в мечети Омара — исполинский камень посреди ротонды. На нем Авраам чуть было не принес в жертву своего сына Исаака[212]. Это по крайней мере достоверно, во всяком случае на это предание можно куда больше положиться, чем на многие другие. На том же камне стоял ангел и грозил Иерусалиму, а Давид уговаривал его пощадить город. Камень этот хорошо знаком и Магомету: с него он вознесся на небо. Камень хотел было последовать за ним, и если бы по счастливой случайности не подвернулся архангел Гавриил и не придержал его, ему бы это удалось. Мало кто может похвалиться такой хваткой, как Гавриил, — исполинские следы его пальцев в два дюйма глубиной остались на камне по сей день.
И этот огромный камень висит в воздухе. Он ничего не касается. Так сказал гид. Поразительно! В том месте, где стоял Магомет, в твердом камне остались отпечатки его ступней. Судя по ним, пророк носил башмаки шестидесятого размера. Но вот почему я заговорил об этом висящем в воздухе камне: под ним есть плита, которая, как говорят, закрывает отверстие, представляющее необычайный интерес для всех магометан, ибо это отверстие ведет прямо в подземное царство душ, и каждая душа, которая переводится оттуда на небо, должна пройти через него. У отверстия стоит Магомет и вытаскивает всех за волосы. Все магометане бреют головы, но предусмотрительно оставляют клок волос, чтобы пророку было за что ухватиться. По словам нашего гида, правоверный магометанин счел бы себя обреченным на вечные муки, если бы почему-либо лишился своего клока и почувствовал приближение смерти прежде, чем волосы успели отрасти. Впрочем, большинство тех магометан, которых я видел, все равно заслужило вечные муки, независимо от того, как их обрили.
Уже несколько веков ни одной женщине не разрешено подходить к этому первостепенной важности отверстию. Дело в том, что одну из представительниц прекрасного пола как-то поймали на месте преступления, когда она выбалтывала все земные новости томящимся в аду грешникам. Она была такая сплетница, что ничего не удавалось сохранить в тайне, — что бы ни сказали, что бы ни сделали на земле, в подземном царстве душ об этом узнавали еще до захода солнца. Пора было закрыть этот телеграф, и его закрыли. И почти в ту же минуту душа ее отлетела.
Внутри огромная мечеть пышно убрана — стены у нее из разноцветного мрамора, витражи и надписи искусно выложены мозаикой. У турок, как и у католиков, есть свои святыни. Гид показал нам подлинные доспехи великого зятя и преемника Магомета, а также щит Магометова дядюшки. Высокая железная ограда, окружающая камень, в одном месте украшена тысячами лоскутьев, привязанных к решетке. Это чтобы Магомет не забывал своих почитателей, побывавших здесь. Считается, что только один способ напомнить ему о себе был бы вернее, — обвязать ему вокруг пальца нитку на память.
Около мечети, на том месте, где сиживали Давид и Голиаф, когда судили народ[213], стоит крохотный храм.
Повсюду вокруг мечети Омара видишь разбитые колонны, жертвенники удивительной работы, обломки прекрасных мраморных украшений — бесценные остатки Соломонова храма. Их раскопали под толстым слоем земли и мусора на горе Мориа, и мусульмане всегда были склонны сохранять их с величайшей бережностью. В той части древней стены храма Соломонова, которая называется «Стена плача» и где евреи каждую пятницу лобызают священные камни и оплакивают былое величие Сиона, всякий может видеть остатки самого настоящего и доподлинного храма Соломона — три-четыре камня, лежащие один на другом, причем каждый вдвое длиннее семиоктавного фортепиано и шириной примерно во всю его высоту. На обломках этих очень своеобразная, необычная резьба. Но я уже говорил, что эдикт, запрещающий христианским псам вроде нас входить во двор мечети и любоваться бесценными мраморными столпами, некогда украшавшими внутренность храма, отменен всего лишь год или два назад, поэтому к глубокому интересу, который они, естественно, вызывают, прибавляется еще очарование новизны. Они встречаются на каждом шагу, особенно много их в соседней мечети Эль Акса, — для лучшей сохранности они вделаны в ее внутренние стены. Эти обломки, теперь грязные и запыленные, имеют лишь весьма отдаленное сходство с тем великолепием, равного которому, как нас учили, нет на земле; они вызывают в памяти пышные картины, которые все мы не раз рисовали в своем воображении: верблюды, груженные пряностями и сокровищами; красавицы рабыни, присланные в дар Соломону для его гарема; кавалькады богато разубранных коней и воинов; и царица Савская — самое волшебное из всех этих видений «восточного великолепия». В этих прекрасных обломках старины куда больше притягательной силы для легкомысленного грешника, чем в суровых камнях «Стены плача», которую целуют евреи.
Ниже, в лощине, под оливами и апельсиновыми деревьями, растущими в просторном дворе мечети, стоит множество колонн — остатки древнего храма, который они когда-то поддерживали. Там же сохранились массивные своды, — их не сумел уничтожить даже разрушительный плуг, о котором вещал пророк. Мы были приятно разочарованы, мы и не мечтали увидеть остатки настоящего храма Соломона, и, однако, не испытываем и тени подозрения, что это опять обман и монашеские плутни.
Мы пресыщены достопримечательностями. Теперь все для нас потеряло всякую прелесть, кроме Храма святого гроба Господня. Мы бывали в нем каждый день, и он не наскучил нам, но все остальное нам надоело. Здесь слишком много достопримечательностей, они кишат вокруг вас на каждом шагу: во всем Иерусалиме и его окрестностях, кажется, нет ни пяди земли, которая не была бы чем-либо знаменита или прославлена. Истинное облегчение пройти сотню ярдов самостоятельно, ускользнув от гида, который вечно донимает вас рассказами о каждом камне, лежащем на вашем пути, и тащит вас назад, в глубь веков, к тем временам, когда этот камень приобрел известность.
Трудно поверить, но однажды я поймал себя на том, что, облокотившись на древнюю стену, совершенно равнодушно гляжу на историческую купальню Вифезду. Я никогда не думал, что может существовать такое множество памятных мест, что они начнут даже приедаться. Но, по правде говоря, несколько дней кряду мы покорно ходили по городу и смотрели и слушали больше по обязанности, чем из каких-либо иных, более возвышенных и достойных побуждений. И часто, очень часто мы радовались, когда подходило время возвращаться домой и уже не надо было до изнеможения осматривать всякие знаменитые места.
Наши паломники стремятся слишком много вместить в один день. Достопримечательностями, как и сластями, можно объесться. С тех пор, как мы позавтракали сегодня утром, мы уже успели перевидать столько, что, если бы мы осматривали все это не торопясь, с толком, нам бы на целый год хватило пищи для размышлений.
Мы посетили купальню Езекии, где Давид увидел жену Урии, выходившую из воды, и влюбился в нее.
Мы вышли из города через Яффские ворота, и нам, разумеется, наговорили с три короба о Журавлиной башне.
Мы пересекли долину Гиннома, проехали меж двух прудов Тихона, а потом вдоль построенного Соломоном акведука, который по сей день снабжает город водой.
Мы поднялись на холм Злого совещания, где Иуда получил свои тридцать сребреников, и постояли под деревом, на котором, как гласит древнее предание, он удавился.
Потом мы снова спустились в ущелье, и тут гид принялся сообщать название и историю каждого камня и каждой насыпи, которые попадались на нашем пути: «Это Кровавое поле; в этой скале высечены жертвенники Молоху; здесь приносили в жертву детей; вон там Сионские врата, Тиропеонская долина, гора Офель; отсюда отходит долина Иосафата — справа колодец Иова». Мы направились вверх по долине Иосафата. Перечисление продолжалось: «Вот гора Елеонская; вот гора Соблазна; эта кучка хижин — селение Силоам; а вон то — царский сад; под этим деревом был убит первосвященник Захария; вон там гора Мориа и стена Иерусалимского храма; гробница Авессалома, гробница святого Иакова, гробница Захарии; а вон там Гефсиманский сад и гробница девы Марии; а вот Силоамская купель, а там...»
Мы заявили, что хотим спешиться, утолить жажду и отдохнуть. Мы изнемогали от жары. После бесконечной езды мы просто не стояли на ногах. Всем хотелось передышки.
Купель — это глубокий, обнесенный стеною ров, по которому бежит прозрачный ручей; он берет начало где-то под Иерусалимом и, проходя через источник богородицы, отдающий ему свои воды, течет сюда по прочной каменной трубе. Знаменитая купель без сомнения выглядит в точности так, как выглядела она при царе Соломоне, и все те же смуглые женщины, по старому восточному обычаю, спускаются сюда с кувшином на голове, как то было три тысячи лет назад и будет через пятьдесят тысяч лет, если к тому времени еще будут на свете восточные женщины.
Мы двинулись дальше и остановились у источника богородицы. Но вода здесь нехороша, и отдохнуть было невозможно, потому что целый полк мальчишек, девчонок и нищих не давал нам ни минуты покоя, требуя бакшиш. Гид сказал, чтобы мы подали им какую-нибудь малость, и мы послушались; когда же он прибавил, что они умирают с голоду, мы почувствовали, что совершили великий грех, помешав столь желанному концу, и попытались было отобрать свое подаяние, но, разумеется, не смогли.
Мы вошли в Гефсиманский сад и посетили гробницу богородицы; и то и другое мы уже видели прежде. Здесь неуместно говорить о них. Я отложу это до более подходящего времени.
Не могу сейчас говорить о горе Елеонской, или о том, какой вид открывается с нее на Иерусалим, Мертвое море и Моавские горы, или о Дамасских воротах и о дереве, посаженном иерусалимским королем Готфридом. Обо всем этом следует рассказывать, когда ты в хорошем расположении духа. О каменном столбе, который вделан в стену иерусалимского храма и, словно пушка, нависает над долиной Иосафата, я могу сказать только, что мусульмане верят, будто Магомет усядется на нем верхом, когда придет вершить суд над миром. Какая жалость, что он не может этого сделать, сидя па каком-нибудь насесте у себя в Мекке, не переступая границ нашей святой земли. Совсем рядом, в стене храма — Золотые ворота, они являли собою прекрасный образец скульптуры в те древние времена, когда храм еще строился, и остались им поныне. Отсюда в старину иудейский первосвященник выпускал козла отпущения, и тот убегал в пустыню, унося на себе груз всех грехов народа иудейского, скопившихся за год. Если б его вздумали выпустить теперь, он убежал бы не дальше Гефсиманского сада: эти несчастные арабы непременно слопали[214] бы его вместе со всеми грехами. Им-то все нипочем: козлятина, приправленная грехом, для них недурная пища. Мусульмане неусыпно и с тревогой следят за Золотыми воротами, ибо в одном почтенном предании говорится, что когда падут эти ворота — падет ислам, а с ним и Оттоманская порта. Я ничуть не огорчился, заметив, что старые ворота несколько расшатались.
Мы уже дома. Мы совсем выбились из сил. Солнце едва не изжарило нас заживо.
Все же одна мысль служит нам утешением. Наш опыт путешествия по Европе научил нас, что со временем усталость забудется, и жара забудется, и жажда, и утомительная болтовня гида, и приставания нищих — и тогда о Иерусалиме у нас останутся одни приятные воспоминания: воспоминания, к которым с годами мы будем обращаться со все возрастающим интересом; воспоминания, которые станут прекрасными, когда все, что было докучного и обременительного, изгладится из памяти, чтобы уже больше не возвращаться. Школьные годы не счастливее всех последующих, но мы вспоминаем их с нежностью и сожалением, потому что мы забыли, как нас наказывали и как мы горевали о потерянных камешках и о погибших воздушных змеях, забыли все горести и лишения этой золотой поры и помним лишь набеги на огороды, поединки на деревянных мечах и рыбную ловлю во время вакаций. Мы вполне довольны. Мы можем подождать! Нам уготована награда. Через какой-нибудь год Иерусалим и все, что мы видели, и все, что испытали, станет волшебным воспоминанием, с которым мы не расстанемся ни за какие деньги.
Глава XXVIII. Вифания. — «Бедуины!» — Древний Иерихон. — Мертвое море. — Святые отшельники. — Газели. — Место рождения Спасителя, Вифлеем. — Храм рождества. — Возвращение в Иерусалим.
Мы подвели итог. Он оказался очень даже недурен. Нам оставалось поглядеть в Иерусалиме всего-навсего дома богача и Лазаря[215] из притчи; гробницы царей и судей; место, где побили камнями одного из последователей Христа и обезглавили другого; горницу и стол, прославленные тайной вечерей; смоковницу, которая засохла по слову Иисуса; несколько исторических мест вокруг Гефсиманского сада и горы Елеонской и еще каких-нибудь пятнадцать — двадцать мест в разных частях города.
Дело шло к концу. Теперь вступала в свои права человеческая природа. Как и следовало ожидать, начали сказываться пресыщение и усталость. Силы понемногу изменяли паломникам, и пыл их угасал. Они уже не боялись, что упустят что-нибудь такое, что паломнику никак нельзя упускать, и заранее предвкушали близкий и вполне заслуженный отдых. Они несколько разленились. Они поздно выходили к завтраку и подолгу засиживались за обедом. Три или четыре десятка паломников, избравшие короткий маршрут, прибыли сюда с «Квакер-Сити», и нельзя было отказать себе в удовольствии вволю посплетничать. В жаркие дневные часы они с наслаждением полеживали на прохладных диванах в отеле, курили, болтали о приятных происшествиях минувшего месяца, ибо иные приключения, которые подчас раздражали и злили и казались лишенными всякого интереса, уже спустя какой-нибудь месяц стали выделяться на ровном и скучном фоне однообразных воспоминаний, точно радующие глаз вехи. Сирена маяка, предупреждающая о тумане, в городе тонет в миллионе менее резких и громких звуков, ее не услышишь уже за квартал, но моряк слышит ее далеко в море, куда не достигают городские шумы. Когда ходишь по Риму, все купола кажутся одинаковыми, но когда отъедешь на двенадцать миль, город уже совсем исчезает из виду, и лишь купол св. Петра парит над равниной, точно привязанный воздушный шар. Когда путешествуешь но Европе, все ежедневные происшествия кажутся одинаковыми, но когда их отделяют от тебя два месяца и две тысячи миль, в памяти всплывает лишь то, что стоит помнить, а все мелкое, незначительное улетучивается. Эта склонность покурить, побездельничать и поболтать не обещала нам ничего хорошего. Все ясно понимали, что нельзя позволить, чтобы она завладела нами. Надо попытаться переменить обстановку, иначе мы совсем распустимся. Было предложено поглядеть Иордан, Иерихон и Мертвое море. А все, что недосмотрели в Иерусалиме, можно пока отложить. Все сразу же согласились. Жизнь снова забила ключом. Тотчас заработало воображение: в седло... на широкие просторы... спать под открытым небом, в постели, которая простирается до самого горизонта. Больно было видеть, как эти коренные горожане пристрастились к вольной жизни, к привалам в пустыне. Человек — прирожденный кочевник, дух кочевничества заложен был еще в Адаме, передался патриархам, и как ни воспитывала нас цивилизация, за тридцать веков ей не удалось вытравить из нас этот дух. В кочевой жизни есть своя прелесть, и однажды вкусив ее, человек вечно будет к ней стремиться. В индейце, например, никакими силами не уничтожить кочевника.
Итак, предложение ехать на Иордан было одобрено, и мы сообщили об этом драгоману.
В девять часов утра караван уже поджидал нас у дверей отеля, а мы сидели за завтраком. В городе царило волнение. Носились слухи о войне и кровопролитии. Необузданные бедуины из Иорданской долины и пустынь, лежащих у Мертвого моря, восстали и собирались разделаться со всеми пришельцами. Они вступили в бой с эскадроном турецкой кавалерии и разбили его; есть убитые. Они загнали жителей деревни и турецкий гарнизон в старый форт близ Иерихона и осадили его. Они подошли к лагерю наших паломников у Иордана, и те спаслись лишь тем, что под прикрытием ночи ускользнули из лагеря и, изо всех сил погоняя и пришпоривая лошадей, ускакали в Иерусалим. Другую нашу группу обстреляли из засады, а потом атаковали средь бела дня. Обе стороны открыли огонь. По счастью, обошлось без кровопролития. Мы побеседовали с одним из тех паломников, которые стреляли, и узнали из первых рук, что в минуту смертельной опасности только мужество и хладнокровие, численное превосходство и вооружение, одним своим видом наводящее страх на врага, спасло их от неминуемой гибели. Нам передали, что консул настоятельно просит, чтобы никто из наших паломников не ездил к Иордану, пока положение не изменится; более того, он вообще не рекомендовал бы никому выезжать из города, разве что под усиленной военной охраной. Это осложняло дело. Но когда у дверей ждут лошади и все знают, для чего они тут, что бы сделали вы на пашем месте? Признались бы, что струсили, и отступили бы с позором? Едва ли. Какой мужчина пойдет на это, когда вокруг столько женщин? Вы бы поступили так же, как мы: сказали бы, что вам не страшен и миллион бедуинов, составили бы завещание и пообещали бы себе держаться скромно и незаметно в самом хвосте кавалькады.
Должно быть, мы все избрали одну и ту же тактику, и похоже было, что нам никогда не добраться до Иерихона. Моя лошадь отнюдь не была призовым скакуном, но, хоть режьте, мне никак не удавалось держаться позади остальных. Я все время оказывался в авангарде. Очутившись во главе кавалькады, я всякий раз пугался и спешивался, чтобы поправить седло, — но тщетно: все остальные тоже спешивались и принимались поправлять седла. Никогда еще у нас не было столько хлопот с седлами. Три недели все шло как по маслу, а тут со всеми сразу что-то приключилось. Я попробовал пойти пешком, для моциона, — я недостаточно находился в Иерусалиме, рыская по святым местам. Но и тут меня постигла неудача. Все как один жаждали моциона, и уже через каких-нибудь пятнадцать минут все спешились, и я снова оказался первым. Я не знал, что и делать.
Все это было уже за Вифанией. В этом селении мы остановились через час после выезда из Иерусалима. Нам показали гробницу Лазаря. Я бы поселился в ней куда охотнее, чем в любом здешнем доме. Показали нам также и большой источник Лазаря и его древнее жилище посреди селения. По всему видно, что он был человек состоятельный. Все, что нам рассказывают о нем в воскресной школе, очень несправедливо — можно подумать, что он был бедняк. Это его просто путают с тем Лазарем, который не имел других заслуг, кроме добродетели[216], а добродетель никогда не пользовалась таким почетом, как деньги. Дом Лазаря трехэтажный, каменный, но его совсем засыпало мусором, скопившимся за долгие века, и теперь виден один лишь верхний этаж. Мы взяли свечи и спустились в мрачный, как погреб, покой, где Христос разделил трапезу с Марфой и Марией и беседовал с ними об их брате. И поневоле мы с каким-то особенным чувством смотрели на это унылое жилье.
С вершины горы мы бросили взгляд на Мертвое море, лежащее на Иорданской равнине, точно голубой щит, и теперь шагаем по узкой, раскаленной, суровой и необитаемой теснине, где не выдержало бы ни единое живое существо, кроме разве саламандры. Все тут до отвращения угрюмо, мрачно, безжизненно! Вот в этой-то «пустыне» и проповедовал Иоанн, препоясанный куском верблюжьей шкуры, составлявшим весь его наряд, — но негде ему тут было разжиться ни диким медом, ни акридами. Уныло тащились мы по этому страшному ущелью, и каждый старался оказаться позади всех. Наши телохранители — два ослепительных молодых шейха, увешанные с головы до пят мечами, ружьями, пистолетами и кинжалами, — не спеша двигались во главе колонны.
«Бедуины!»
Все тотчас съежились и, точно черепаха, втянули голову в плечи. Первым моим побуждением было ринуться вперед и перебить всех бедуинов; вторым — ринуться назад и посмотреть, не приближается ли враг с тыла. Так я и сделал. И все остальные поступили так же. Если бы бедуины приближались с тыла, они дорого заплатили бы за свою опрометчивость. Мы все потом сошлись на этом. Тут разыгралось бы столь кровопролитное сражение, что никаким пером не опишешь. Я твердо знаю это — ведь каждый из нас сам сказал, как бы он расправился с врагом: такой неслыханной, такой изобретательной свирепости даже и вообразить невозможно. Один с полным спокойствием объявил, что он бы погиб, если надо, но не отступил ни на шаг; запасись терпением, он подпустил бы первого бедуина так близко, чтобы можно было пересчитать все полосы на его одежде, а пересчитав, выстрелил бы в упор. Другой собрался ждать не шевелясь, пока первое копье не окажется ровно в дюйме от его груди, тогда бы он увернулся и выхватил его. Я не смею сказать, как он хотел поступить с владельцем копья. При одной мысли об этом у меня кровь стынет в жилах. Третий задумал снять скальпы с тех бедуинов, которые придутся на его долю, и этих оскальпированных сынов пустыни привезти домой в качестве живых трофеев. Лишь наш служитель муз с горящим взором хранил молчание. Глаза его сверкали диким блеском, но уста были сомкнуты. Нетерпение наше росло, и к нему приступили с расспросами. Если бы он захватил бедуина, что бы он с ним сделал — пристрелил? Поэт улыбнулся мрачно и презрительно и покачал головой. Заколол бы кинжалом? Снова он качает головой. Четвертовал бы? Или содрал с живого кожу? Тот же ответ. О, ужас! Что же он собирался сделать?
— Слопать его живьем!
Вот какие страшные слова извергли его уста. Что такому отчаянному храбрецу изящный стиль? В глубине души я порадовался, что мне не пришлось стать свидетелем столь жестокой расправы. Ни единый бедуин не атаковал наш могучий тыл. И ни единый не атаковал нас с фронта. Просто к нам явилось подкрепление в лице тощих, как скелеты, арабов в одних рубахах и с голыми ногами; им велено было идти далеко впереди нас, размахивать ржавыми ружьями, кричать, похваляться своей силой и вообще всячески безумствовать и таким образом распугивать шайки разбойников-бедуинов, которые могут устроить нам засаду. Какой позор! Вооруженные белые христиане вынуждены путешествовать под охраной такого вот отребья, которое должно защищать нас от диких кочевников пустыни, этих кровожадных разбойников, всегда готовых совершить нечто ужасное, но никогда ничего такого не совершающих. Могу еще прибавить, что за всю эту поездку мы не видали ни одного бедуина, и наши телохранители оказались нам столь же необходимы, как лакированные башмаки и белые лайковые перчатки. Бедуины, которые так яростно атаковали другие партии паломников, были доставлены телохранителями этих партий: их нанимают в Иерусалиме и засылают в пустыню в качестве бедуинов. На глазах у паломников они после сражения сошлись с телохранителями и все вместе завтракали и делили бакшиш, который удалось выудить у этих паломников в минуту опасности, а потом сопровождали кавалькаду обратно до самого Иерусалима! Говорят, что этих несносных телохранителей шейхи и бедуины придумали совместно для взаимной выгоды, и, несомненно, это недалеко от истины.
Мы посетили источник, в котором пророк Елисей подсластил воду (она и сейчас еще сладкая); здесь он провел некоторое время, и вороны кормили его[217].
Древний Иерихон не из самых живописных руин. Когда около трех тысяч лет назад Иисус Навин, обойдя вокруг него семь раз, сокрушил его трубным гласом, он сделал свое дело так солидно и основательно, что от города осталось едва ли не ровное место. Сказано было, что проклят будет тот, кто попытается вновь отстроить его, и проклятие это в силе по сей день. Один царь, отнесясь к этому легкомысленно, хотел было нарушить запрет, но горько поплатился за свою самонадеянность. Здесь никогда никто не поселится, а ведь во всей Палестине мы не видели места, где удобней было бы стоять городу.
В два часа ночи нас вытащили из постели — новая возмутительная жестокость, новая попытка нашего драгомана опередить соперника. До Иордана оставалось меньше двух часов езды. И прежде чем кто-либо догадался взглянуть на часы, мы оделись и двинулись в путь; ночь была холодная, все мы клевали носом и мечтали о лагерных кострах, теплых постелях и о многом другом, что радует душу путника.
Ехали молча. Когда человек продрог, не выспался и чувствует себя несчастным, ему не до разговоров. Время от времени один из нас начинал дремать и, проснувшись от толчка, обнаруживал, что кавалькада исчезла во тьме. Тогда приходилось изо всех сил погонять лошадь и смотреть в оба, пока впереди не начинали опять маячить смутные тени. Изредка от одного к другому вполголоса передавали приказ: «Подтянись, подтянись! Тут повсюду рыщут бедуины!» При этих словах всех нас мороз подирал по коже.
Еще не было четырех часов, когда мы подошли к прославленной реке; темно было хоть глаз выколи, и мы вполне могли въехать в реку, даже не заметив ее. Некоторые из нас совсем приуныли. Мы ждали, ждали, но все никак не рассветало. Наконец мы отъехали немного, соснули часок на земле в кустах и схватили насморк. В этом смысле сон дорого обошелся нам; но с другой стороны, это было выгодное предприятие, ибо мы хоть на время забылись и проснулись в состоянии, более пригодном для первого знакомства со священной рекой.
С первыми проблесками зари все паломники разделись и вступили в темные воды, распевая гимн:
У бурных вод Иордана стою,
В раздумье взираю
На обетованную землю мою,
Где лежит все, чем я обладаю.
Но недолго они пели. Вода была так холодна, что пришлось оборвать на полуслове и поспешно выбраться на берег. Они стояли на берегу, дрожа мелкой дрожью, такие несчастные, убитые горем, что нельзя было не пожалеть их. Еще одна мечта, еще одна издавна лелеемая надежда обманула их. Они с самого начала дали себе слов, что перейдут Иордан в том самом месте, где его перешли израильтяне, когда, после долгих скитаний по пустыне, вступили в землю Ханаанскую. Они хотели перейти там, где в память об этом событии были положены двенадцать камней. И пока они переходили бы Иордан, их воображению рисовались бы несчетные толпы, которые рассекают воды Иордана, неся священный ковчег завета, возглашая «Осанну» и распевая благодарственные молитвы и хвалы. Каждый давал себе слово, что первым перейдет Иордан. И вот наконец-то они у цели, но течение слишком стремительно, и вода слишком холодна!
Тут-то Джек и сослужил им службу. С очаровательной беззаботностью, которая так естественна в юности, так подобает ей и так ей к лицу, он вошел в воду и направился к другому берегу, — и все, сразу повеселев, последовали его примеру и перешли Иордан вброд. В самом глубоком месте вода была только по грудь, иначе мы едва ли совершили бы этот подвиг, — нас снесло бы течением и мы выбились бы из сил и утонули, не успев выбраться на берег. Итак, цель была достигнута, и жалкие, измученные паломники уселись на берегу, поджидая солнышка, — всем хотелось не только ощутить священные воды, но и увидеть их собственными глазами. Но уж очень было холодно. Наполнили водой из священной реки несколько банок, срезали на берегу несколько тростников и, сев на лошадей, неохотно поехали дальше, чтобы не замерзнуть до смерти. Итак, мы видели Иордан весьма смутно. Густой кустарник, что растет по берегам, отбрасывая тень на неглубокие, но беспокойные воды («бурными» величает их гимн, чем несомненно льстит им), и мы так и не увидели, широка ли она. Однако мы перешли Иордан вброд и знаем по опыту, что многие улицы в Америке вдвое шире.
Вскоре после того, как мы пустились в путь, наконец рассвело, и не прошло и двух часов, как мы достигли Мертвого моря. Вокруг него в плоской, выжженной солнцем пустыне растет один только плевел, а яблоки, созревающие на этих берегах, по словам поэтов, прекрасны на вид, но стоит их разломить — и они превращаются в прах и пепел. Те, что попались нам, не отличались красотой и были горьки на вкус. Они не рассыпались в прах. Быть может, все дело в том, что они еще не созрели.
Пустыня и голые холмы вокруг Мертвого моря мерцают на солнце так, что больно смотреть, и нигде ни зелени, ни единого живого существа — ничего, что радовало бы глаз. Это мерзкий, бесплодный, испепеленный солнцем край. Гнетущая тишина нависла над ним. И невольно начинаешь думать о похоронах и смерти.
Мертвое море невелико. Воды в нем прозрачные, дно усыпано галькой и очень отлогое у берегов. Оно выбрасывает много битума, куски его валяются по всему берегу, и от этого вокруг стоит неприятный запах.
Авторы всех прочитанных нами книг предупреждали, что, едва только мы окунемся в Мертвое море, нас ждут большие неприятности — ощущение будет такое, словно в тело впились миллионы раскаленных иголок; жгучая боль будет длиться часами; может быть, мы даже с головы до ног покроемся волдырями и будем мучиться не один день. Однако нас постигло разочарование: вся наша восьмерка бросилась в воду, и с нами еще один отряд паломников, и никто даже не вскрикнул. Никто ничего такого не почувствовал, разве что легкое покалывание в тех местах, где была содрана кожа, да и то ненадолго. У меня несколько часов сильно болело лицо, но это отчасти потому, что во время купанья его напекло солнцем, а кроме того, я слишком долго оставался в воде, и на лице наросла корка соли.
Нет, от этого купанья мы не покрылись ни волдырями, ни липкой грязью, и не стали источать зловоние; грязь была не такая уж липкая, и мне не кажется, что от нас стало пахнуть хуже, чем пахло во все время, что мы в Палестине. Запах просто немного изменился, но это не очень заметно, ведь мы уже привыкли, что он то и дело меняется. На Иордане от нас пахло иначе, чем в Иерусалиме, а в Иерусалиме мы пахнем не так, как в Назарете, Тивериаде, Кесарии или среди развалин любого другого города Галилеи. Нет, в этом отношении мы все время меняемся, и, как правило, к худшему. Мы ведь сами на себя стираем.
Забавное это оказалось купанье. Нам никак не удавалось погрузиться в воду. Можно было растянуться на спине во всю длину, сложив руки на груди, и тогда подбородок, грудь и живот оказывались над водой. При желании можно было поднять голову. Но ни в одном положении нельзя удержаться долго — теряешь равновесие и переворачиваешься то на спину, то на живот. Если поддерживать равновесие руками, можно преспокойно лежать на спине, так чтобы голова и ноги от колен и до пяток торчали над водой. Можно сесть, подтянув колени к самому подбородку и обхватив их руками, но скоро опрокинешься, потому что тут никак не удержишь равновесие. Можно встать в воде и выше пояса останешься сухим, хотя глубина здесь больше человеческого роста. Но и так долго не устоишь — очень скоро вода вытолкнет ноги на поверхность. Нечего и пытаться плавать на спине, так как ступни вылезают на поверхность и отталкиваться можно разве что пятками. Пытаешься плыть на животе, загребаешь воду, как колесный пароход, — и не двигаешься с места. Лошадь совсем теряет равновесие в Мертвом море; не может ни плыть, ни стоять, она тут же опрокидывается на бок. Те из нас, кто купались больше часа, вышли из воды сплошь покрытые солью и блестели, как сосульки. Мы соскребли ее жестким полотенцем и уехали, увозя с собой великолепный, новый с иголочки запах; и право же, он был ничуть не хуже всех тех, которыми мы наслаждались последние недели. Он очаровал нас своей новизной, каким-то совершенно новым оттенком зловония. По берегам озера в солнечных лучах всюду блестят кристаллы соли. Кое-где они покрывают землю точно сверкающей коркой льда.
В детстве я почему-то воображал, что длина Иордана четыре тысячи миль, а ширина тридцать пять. На самом же деле он тянется всего на девяносто миль, и при этом все время так извивается, что никогда не знаешь, на каком ты берегу. Если не следовать всем изгибам реки, а идти напрямик, то это не девяносто миль, а всего каких-нибудь пятьдесят. Иордан не шире нью-йоркского Бродвея. Что до моря Галилейского и Мертвого моря — ни то, ни другое не достигают двадцати миль в длину и тринадцати в ширину. И однако, когда я учился в воскресной школе, я воображал, что каждое из них равно шестидесяти тысячам миль в поперечнике.
Путешествия и жизненный опыт портят самые грандиозные картины, созданные нашим воображением, и отнимают у нас иллюзии, которыми мы себя тешили в детстве. Что ж, пусть так. Я уже видел, как царство Соломона уменьшилось до размеров штата Пенсильвания; и если оба моря и река тоже оказались не столь велики, как мне казалось, надо думать, я и это как-нибудь перенесу.
Дорогой мы внимательно смотрели по сторонам, но нигде не видели ни крупинки, ни кристаллика жены Лота[218]. Мы были горько разочарованы. С давних пор мы знаем печальную историю этой женщины, внушавшей нам тот особенный интерес, который всегда возбуждает несчастье. Но бедная женщина исчезла без следа. Соляной столп не маячит больше в пустыне, окружающей Мертвое море, и не напоминает туристам о горьком жребии погибших городов.
Я не в силах описать мучительный дневной переезд от Мертвого моря до монастыря св. Саввы. Мне до сих пор тягостно вспоминать о нем. Солнце жгло так яростно, что раза два мы не могли удержаться от слез. В отвратительных душных ущельях, без единого деревца, без единой травинки, было жарко и душно, как в раскаленной печке. Мы положительно чувствовали на себе тяжесть солнца. Никто не мог сидеть в седле выпрямившись, всех пригнуло к луке. И в этой пустыне Иоанн проповедовал! Нелегкая, должно быть, была работа. Каким раем показались нам могучие башни и валы громадного монастыря, когда мы завидели их вдали.
Мы провели ночь в этом монастыре в гостях у радушных монахов. Монастырь св. Саввы — человеческое гнездо, прилепившееся на крутом горном откосе; это целый мир каменных стен, которые уступами поднимаются высоко в небо, подобно колоннадам на изображениях Валтасарова пира или дворцов древних фараонов. Поблизости нет больше никакого жилья. Монастырь основан много веков назад святым отшельником, который сперва жил в пещере, — ныне она огорожена монастырскими стенами, и нам благоговейно показали ее святые отцы. Отшельник сей жестоко истязал свою плоть, сидел на хлебе и воде, удалился от людей и всякой мирской суеты, проводил время в молитве и, созерцая череп, благочестиво размышлял о тщете всего земного; пример оказался заразителен, и у него объявилось много последователей. В противоположном склоне ущелья выбито множество небольших нор, служивших им жильем. Нынешние жители монастыря, числом около семидесяти, все пустынники. Одежду их составляет грубая ряса да уродливый колпак, похожий на печную трубу, и они обходятся без обуви. Едят они только хлеб с солью, а пьют одну только воду. Всю жизнь до самой смерти они не могут выйти за эти стены или взглянуть на женщину, ибо ни единой женщине ни под каким предлогом не разрешается входить в монастырь св. Саввы.
Некоторые монахи провели здесь взаперти добрых тридцать лет. И все эти безотрадные годы они не слышали ни детского смеха, ни сладостного голоса женщины: не видели ни человеческой слезы, ни человеческой улыбки; не ведали ни человеческих радостей, ни умиротворяющей человеческой печали. Они не помнят прошлого, не мечтают о будущем. Они отринули все, что мило человеческому сердцу, все, что есть на свете прекрасного и достойного любви; от всего, что радует глаз и ласкает слух, они навсегда отгородились тяжелыми дверями и безжалостными каменными стенами. Они изгнали из жизни всю ее прелесть и всю нежность, и, лишенная животворящих соков, она превратилась в костлявую, иссохшую карикатуру на самое себя. Уста их никогда не знали ни поцелуя, ни песни; сердца не ведали ни ненависти, ни любви; грудь никогда не вздымалась от волнения при звуках гимна их отчизны. Это ходячие мертвецы.
Я записал эти мысли, прежде всего пришедшие мне в голову, просто потому, что это непосредственные мысли, а не потому что они справедливы, или потому, что я считал нужным их записать. Ловким писакам легко говорить: «Глядя на то-то и то-то, я думал так-то и так-то», а на самом деле все эти красивые мысли пришли им в голову гораздо позже. Первое впечатление редко бывает особенно точным, однако в том нет греха, и не грех сохранить его, а там можно и поправиться, если ошибся. Эти пустынники и в самом деле живые мертвецы во многих отношениях, однако не во всех, и не пристало мне, подумав о них сперва дурно, стоять на своем или, раз начав говорить о них дурно, снова и снова твердить одно и то же. Нет, это не годится, ведь они были так гостеприимны. Где-то в глубине души в них еще сохранилось что-то человеческое. Они знали, что мы чужестранцы и протестанты и вряд ли восхищаемся ими, вряд ли дружески к ним расположены. Но в своем человеколюбии они были выше таких соображений. Они видели в нас просто людей, которые устали, проголодались и хотят пить, — и этого было довольно. Они отворили нам двери и радушно приняли нас. Они ни о чем не спрашивали и не выставляли напоказ свое гостеприимство. Они не напрашивались на комплименты. Без лишнего шума они накрыли на стол, постлали нам постели, принесли воды умыться, не слушая наших уверений, что напрасно они этим занимаются, когда на это у нас есть слуги. Мы поели в свое удовольствие и поздно засиделись за столом, потом в сопровождении монахов обошли весь монастырь, уселись на высоких зубчатых стенах и закурили, наслаждаясь прохладой, любуясь пустынным, диким пейзажем и заходящим солнцем. Двое или трое предпочли провести ночь в уютных спальнях, но дух бродяжничества побудил остальных улечься на широкий диван, который тянулся вдоль стен просторной прихожей; ведь это было куда веселее и соблазнительнее — все равно что спать под открытым небом. И отдохнули мы по-царски.
Утром к завтраку мы вышли обновленные. И за все это гостеприимство с нас не спрашивали платы. Если на то наша воля, так дадим что-нибудь, а если мы бедны или не отличаемся щедростью, можно и ничего не давать. Нищего и скрягу в палестинских католических монастырях принимают не хуже других. Мне с детства внушали неприязнь ко всему католическому, вот почему дурные стороны католиков мне подчас виднее, чем их достоинства. Но есть нечто, о чем я не склонен ни умалчивать, ни забывать: это искренняя благодарность моя и всех моих спутников палестинским монахам. Двери их всегда открыты, и здесь всегда радушно встретят достойного человека — все равно, одет ли он в лохмотья или в пурпур. Католические монастыри — это великое благо для бедняков. Паломник, у которого нет ни гроша, будь он протестант или католик, может вдоль и поперек исходить всю Палестину, и каждую ночь его ждет добрый ужин и чистая постель в одном из этих монастырей. Но и паломника побогаче может свалить с ног солнечный удар или местная лихорадка, и тогда монастыри служат им прибежищем. Не будь их спасительного гостеприимства, путешествие по Палестине оказалось бы по силам лишь самым крепким и выносливым людям. Все мы, паломники и просто путешественники, отныне всегда рады будем поднять бокалы за здоровье, процветание и долгую жизнь святых отцов из палестинского монастыря.
Итак, отдохнув и подкрепившись, мы вытянулись гуськом и поехали по бесплодным горам Иудеи, по скалистым кряжам и голым узким ущельям, где вечно царят тишина и безлюдье. Здесь нет даже вооруженных пастухов со стадами длинношерстных коз, которые изредка попадались нам накануне. Только два живых существа повстречались нам. То были газели, прославленные «кротостью очей». Они похожи на молоденьких козочек, но пожирают пространство со скоростью экспресса. Если не считать антилоп из наших прерий, я не видывал более быстроногих животных.
Часов в десять утра мы выехали на Пастушью равнину и остановились в обнесенном стенами оливковом саду, где восемнадцать веков назад пастухи ночью стерегли свои стада и сонмы ангелов возвестили им о рождении Спасителя. В четверти мили отсюда находится Вифлеем Иудейский, и, прихватив по камешку от ограды, наши паломники поспешили дальше.
Пастушья равнина — это пустыня, усеянная камнями, лишенная всякой растительности, ослепительно сверкающая под беспощадным солнцем. Лишь ангельский хор, прозвучавший здесь однажды, мог бы вновь пробудить к жизни ее цветы и кустарники, возвратить ей утраченную красоту. Лишь такие могущественные чары и способны совершить это чудо.
В огромном Храме рождества в Вифлееме, выстроенном пятнадцать столетий назад все той же неутомимой святой Еленой, нас повели под землю, в грот, вырубленный в скале. Здесь-то и стояли те самые «ясли», в которых родился Христос. Об этом сообщает латинская надпись на серебряной звезде, вделанной в пол. Она отполирована поцелуями многих поколений благочестивых паломников. Грот изукрашен так же безвкусно, как все святые места в Палестине. Здесь, как и в Храме святого гроба Господня, все говорит о зависти и нетерпимости. Служители и приверженцы греческой и латинской церкви не могут пройти в одни и те же двери; чтобы преклонить колена в священном месте, где родился искупитель, они вынуждены приходить и уходить разными улицами, не то они переругаются и передерутся в этой святая святых.
Ни на какие глубокие размышления не навело меня это место, где впервые в мире люди пожелали друг другу «счастливого рождества» и откуда друг моего детства, Санта Клаус, впервые отправился в путь, чтобы ныне и присно и во веки веков в зимние утра приносить веселье и шумное ликование каждому семейному очагу во всех концах света. Почтительно, кончиком пальца коснулся я того самого места, где лежал младенец Иисус, и... и ни о чем не подумал.
Просто невозможно думать здесь, как и в любом другом уголке Палестины, который, казалось бы, должен наводить вас на размышления. Нищие, убогие и монахи так и вьются вокруг и заставляют вас думать об одном только бакшише, хотя вы предпочли бы подумать о чем-нибудь более уместном.
Я рад был убраться отсюда, рад был, когда мы наконец прошли грот, где писал Евсей, и тот, где постился Иероним[219], и тот, где Иосиф готовился к бегству в Египет, и с десяток других знаменитых гротов, и понял, что с ними покончено. В Храме рождества полным-полно в высшей степени священных мест, их чуть ли не столько же, как в самом Храме гроба Господня. Здесь есть даже грот, где, желая убить Иисуса, Ирод умертвил двадцать тысяч младенцев.
Мы, разумеется, побывали в Молочном гроте — в пещере, где некоторое время скрывалась Мария перед бегством в Египет. Когда она вошла сюда, стены пещеры были черные, но едва она начала кормить младенца грудью, капля молока упала на пол — и в мгновение ока темные стены стали молочно-белыми. Мы унесли отсюда множество осколков этого белого камня, ведь на Востоке всем известно, что стоит бесплодной женщине коснуться такого камешка губами, и она тотчас исцелится. Мы набрали множество образчиков, дабы осчастливить некоторые знакомые нам семьи.
После полудня мы распростились с Вифлеемом и с полчищами нищих и торговцев реликвиями и, задержавшись ненадолго у могилы Рахили[220], заторопились к Иерусалиму. Никогда еще я так не радовался возвращению домой. Никогда я так не наслаждался отдыхом, как в эти последние несколько часов. Поездка к Мертвому морю, Иордану и в Вифлеем была недолгой, но изнурительной. Такого палящего зноя, такого гнетущего запустения, такой мрачной пустыни уж конечно не сыщешь больше нигде в целом свете. И мы так устали!
Самый обыкновенный здравый смысл подсказывает мне, что следует держаться общепринятой лжи и лицемерно уверять читателей, будто я с великим трудом расставался с каждым знаменитым местом в Палестине. Все так говорят, но я не верю ни единому слову, хотя по мере сил стараюсь не показать этого. Я готов поклясться самой страшной клятвой, что ни от одного из наших сорока паломников ни разу не слышал ничего подобного, хотя они такие же достойные и благочестивые люди, как все, кто побывал здесь. Они заговорят так довольно скоро, как только вернутся домой, — а почему бы и нет? Они не захотят спорить со всеми Ламартинами и Граймсами, сколько их есть на свете. Было бы совершенно непостижимо, если бы человек нехотя расставался с местами, где его чуть не уморили тучи докучливых нищих и торговцев, которые десятками цепляются за рукава и за полы и кричат и вопят в самые уши и приводят его в ужас, тыча ему в лицо свои страшные язвы и уродства. Каждый рад поскорей убраться отсюда. Я слыхал, как иные бессовестные люди говорили, что они рады бы удрать с дамского благотворительного базара, где прелестные молодые особы навязывают им всякую всячину. Превратите этих гурий в темнокожих ведьм и оборванных дикарей, вместо округлых форм вообразите иссохшие и изуродованные члены, вместо нежных ручек — покрытые шрамами, отвратительные обрубки, и вместо вкрадчивой музыки их голосов режущий ухо гам и крики на ненавистном языке, и уж тогда судите, можно ли нехотя расставаться с подобными местами. Нет, это только так принято говорить, будто вам не хотелось уезжать отсюда, да еще прибавить, что глубокие мысли теснились у вас в мозгу, требуя выхода; на самом же деле вы уезжали весьма охотно, и вам было не до глубоких раздумий, — но, хотя это чистая правда, говорить так и непристойно и непоэтично.
В святых местах мы не думаем; мы думаем потом, лежа в постели, когда весь блеск, и шум, и сумятица остались позади, и мысленно мы снова стоим перед почитаемыми памятниками прошлого и вызываем в своем воображении призрачные картины далекой старины.
Глава XXIX. Отъезд из Иерусалима. — Самсон. — Шаронская равнина. — Яффа — Дом Симона-кожевника. — Конец долгого паломничества. — Палестинский ландшафт. — Проклятие.
Мы посетили все святые места в Иерусалиме, которые не успели осмотреть до поездки на Иордан, и в один прекрасный день, в три часа пополудни, выехали из Иерусалима через величественные Дамасские ворота и навсегда покинули стены города. На вершине отдаленного холма мы остановились и бросили последний взгляд на древний город, в котором мы чувствовали себя так хорошо, и сказали ему последнее прости.
Около четырех часов подряд дорога неизменно шла под гору. Мы ехали узкой тропой, пересекали горные ущелья и, когда могли, уступали дорогу длинным караванам навьюченных верблюдов и ослов, а когда податься было некуда, прижимались к крутым каменным откосам, и нас толкали, и громоздкие тюки обдирали нам ноги. Джеку досталось раза три, и столько же раз Дэну и Моулту. Одна лошадь тяжело упала, поскользнувшись на камнях, и другие были на волосок от этого. Однако для Палестины это была хорошая дорога, а быть может, и самая лучшая из всех, поэтому никто особенно не ворчал.
Порою мы оказывались в узких долинах, где пышно разрослись инжир, абрикосы, гранаты и прочие блага земные, но чаще нас обступали острые горные кряжи, угрюмые, без единой травинки. Здесь и там на высоких, почти неприступных утесах высятся башни. Обычай воздвигать эти башни древен, как сама Палестина, — так повелось исстари для защиты от врагов.
Мы перешли ручей, из которого Давид взял камень, чтобы убить Голиафа, и конечно перед нами было то самое место, где происходил этот знаменитый бой. Мы миновали живописные готические развалины, по каменным плитам которых звенели некогда кованые каблуки доблестных крестоносцев, и проехали по округе, где, как нам сказали, когда-то жил Самсон.
На ночлег мы остановились у гостеприимных монахов монастыря Рамлэ, а поднявшись поутру, проскакали добрую часть пути оттуда до Яффы, или Иоппии, потому что равнина была гладкая, как стол, без всяких камней, да к тому же это был наш последний переход по Святой Земле. Еще два-три часа, и тогда и мы и усталые лошади — все смогут отдыхать и спать сколько душе угодно. Это была та самая равнина, о которой упомянул Иисус Навин, сказав: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою!» Когда Яффа была уже совсем близко, мои спутники решили позабавиться и, дав шпоры лошадям, устроили настоящие скачки, — такого с нами не бывало, пожалуй, с самых Азорских островов, где мы скакали на ослах.
Наконец мы подъехали к прекрасной апельсиновой роще, в которой покоится восточный град Яффа; мы вступили в него и снова оказались на узких улочках, в шумной толпе оборванцев, и все прочее, что предстало нашим взорам и окружило нас со всех сторон, тоже было нам уже хорошо знакомо. Мы спешились в последний раз, и вот перед нами, недалеко от берега, покачивается на якоре наш корабль! Я поставил здесь восклицательный знак, ибо таковы были наши чувства при виде нашего милого «Квакер-Сити». Долгое паломничество окончено, и, что ни говорите, мы, пожалуй, рады этому.
(Описание Яффы смотри во Всемирном географическом справочнике.) В давние времена здесь жил Симон-кожевник. Мы побывали в его доме. Все паломники считают своим долгом посетить дом Симона-кожевника. Когда Петр лежал на крыше этого дома, ему было видение, будто отверзлись небеса, и спустилось оттуда полотно, и были в нем всякие твари земные. Из Яффы отплыл Иона[221], когда ему было велено идти проповедовать против Ниневии, и, разумеется, неподалеку от этого же города кит изринул его, когда оказалось, что он путешествует без билета. Иона был ослушник, придира и вечно чем-нибудь недоволен, и мы, пожалуй, вправе говорить о нем без особого уважения. Лес на постройку храма Соломонова сплавляли в Яффу плотами, и узкий проход между рифами, через который они подплывали к берегу, не стал ни на дюйм шире и ни на йоту безопаснее. Такова уж была ленивая натура жителей единственной в Палестине удобной гавани, такими они остались и по сей день. История Яффы богата событиями. В этой книге вы о них не прочтете. Но если вы обратитесь в библиотеку и сошлетесь на меня, вам выдадут целую пачку книг, из которых вы почерпнете подробнейшие сведения о Яффе.
Так окончилось наше паломничество. Хорошо, что мы предприняли его не для того, чтобы насладиться прелестными видами, ибо тогда нас постигло бы разочарование, по крайней мере в это время года. Автор «Жизни в Святой Земле» замечает:
«Какой бы однообразной и непривлекательной ни показалась Святая Земля людям, привыкшим чуть не круглый год любоваться зеленью, полноводными реками и разнообразными ландшафтами нашего отечества, — нельзя забывать, что на израильтян, после изнурительных сорокалетних странствий по бесплодной пустыне, она должна была произвести совсем иное впечатление».
Мы вполне согласны с этим. Но она и в самом деле «однообразна и непривлекательна», и нет никаких оснований изображать ее иной.
Палестину по праву можно считать царицей среди земель, одним своим видом наводящих уныние. Горы ее бесплодны и некрасивы, их краски тусклы. Долины — это неприглядные пустыни с чахлой растительностью, от которой так и веет тоской и убожеством. Мертвое море и море Галилейское сонно цепенеют среди пустынных гор и равнин, где не на чем отдохнуть глазу, — здесь нет ничего яркого или поражающего, нет ласковых пейзажей, дремлющих в лиловой дымке или испещренных тенями проплывающих в небе облаков. Все очертания резки, все линии четки; здесь нет перспективы — в отдалении все так же лишено очарования, как и вблизи. Безрадостная, угрюмая и скорбная земля.
Впрочем, иные клочки и лоскутки ее, должно быть, прекрасны в расцвете весны, — тем прекраснее, что со всех сторон их обступает голая пустыня, которой нет ни конца ни края. Я очень хотел бы увидеть берега Иордана весной, и Сихем тоже, и Ездрилон, и Аиалон, и берега моря Галилейского, — но даже и весною все они показались бы лишь игрушечными садиками, посаженными далеко друг от друга в бескрайной пустыне.
Палестина не снимает власяницы, и глава ее посыпана пеплом. Над ней тяготеет проклятие, которое иссушает ее поля и сковывает ее силы. Где некогда вздымались к небу башни и кровли Содома и Гоморры, ныне широко разлилось море, в его горьких водах нет жизни, над его мертвенной гладью знойный воздух душен и недвижен, по берегам его растет лишь плевел да кое-где пучки тростника и предательские плоды, которые обещают прохладу запекшимся губам, но при первом же прикосновении обращаются в пепел. Назарет заброшен; там, где, перейдя вброд Иордан, ликующие толпы израильтян с пением вступили в землю обетованную, теперь видишь только убогий лагерь бедуинов в пестрых лохмотьях; проклятый Иерихон лежит в развалинах, как оставил его более трех тысяч лет назад Иисус Навин; Вифлеем и Вифания пребывают в бедности и унижении, и ничто не напоминает о том, что некогда им выпала высокая честь видеть в своих стенах Спасителя; в том священном месте, где пастухи ночью стерегли свои стада и где ангелы возвестили на земле мир и в человецех благоволение, не встретишь ни души и ничто не радует глаз. Даже прославленный Иерусалим, одно из самых величавых имен в истории, утратил былое величие и превратился в нищую деревню; здесь нет уже сокровищ Соломона, ради которых стремились бы сюда восхищенные царицы Востока; чудесный храм, краса и гордость Израиля, не существует более, и турецкий полумесяц красуется на том месте, где в достопамятный день, который навсегда сохранится в анналах истории, воздвигнут был святой крест. Знаменитое море Галилейское, где некогда стоял на якоре римский флот и где плавали на своих лодках апостолы, давным-давно покинуто рыцарями войны и промысла, и берега его безмолвны и пустынны; Капернаум обратился в груду развалин; Магдала стала пристанищем обнищавших арабов; Вифсаида и Хоразин исчезли с лица земли, и «пустынное место», где некогда тысячи людей слушали Спасителя и были накормлены пятью хлебами, спит безмолвное и всеми покинутое, — лишь хищные птицы да трусливые лисы нашли здесь приют.
Палестина — край заброшенный и неприглядный. Да и какой еще она может быть? Если земля проклята Богом, разве может это ее украсить?
Палестина уже не принадлежит нашему будничному, прозаическому миру. Она отдана поэзии и преданиям — это страна грез.
Глава XXX. Корабль — наш дом родной. — Джек и его наряд. — Отцовское напутствие. — Египет. — В Александрии. — На улицах Каира. — Отель «Приют пастуха». — Мы отправляемся к пирамидам.
Какое счастье снова оказаться в море! Какое облегчение сбросить груз всех забот — не думать о том, куда ехать, надолго ли, стоит ли туда ехать; не тревожиться о лошадях; не слышать больше вопросов, вроде: «Доберемся мы когда-нибудь до воды?», «Будем мы когда-нибудь завтракать?» «Фергюсон, сколько тысяч миль нам еще тащиться по жаре? Когда, наконец, будет привал?» Какое облегчение распрощаться со всеми этими докучными мелкими заботами, которые раздирали нас на части, — они были словно стальные канаты, и каждый крепко вязал и держал, — и на время почувствовать себя освобожденными от всех хлопот, ни о чем не беспокоиться, ни за что не быть в ответе. Мы не смотрели на компас — нам было теперь все равно, куда идет корабль, лишь бы поскорей скрылась из виду земля. Когда я опять отправлюсь путешествовать, я бы хотел снова поехать в увеселительную прогулку. На чужом пароходе, среди незнакомых лиц никогда ни за какие деньги не обретешь того блаженного ощущения, что ты опять дома, какое мы испытали, ступив на борт нашего собственного «Квакер-Сити» после столь утомительного паломничества. Всякий раз, возвращаясь на корабль, мы испытывали то же самое. И это чувство мы бы ни на что не променяли.
Мы скинули синие шерстяные рубашки, шпоры, тяжелые сапоги, кровожадные револьверы и штаны, подшитые оленьей кожей, побрились и снова приняли христианский вид. Один только Джек, хоть и сменил все прочие части костюма, не пожелал расстаться с походными штанами; их кожаное сиденье все еще было цело. И всякий раз как он стоял на баке, окидывая взглядом океан, короткая матросская куртка и длинные тощие ноги придавали ему необычайно живописный вид.
В такие минуты мне вспоминалось напутствие его отца. Он сказал:
«Джек, мой мальчик, ты попал в высшее общество, с тобою едут настоящие джентльмены и леди — утонченные, высокообразованные, с отличными манерами. Прислушивайся к их беседам, присматривайся к тому, как они себя ведут, и бери с них пример. Будь вежлив и любезен со всеми, будь терпим к чужим мнениям, слабостям и предубеждениям. Если не сумеешь снискать дружбы своих спутников, старайся по крайней мере заслужить их уважение. И главное, Джек, — ни под каким видом в хорошую погоду не показывайся на палубе в костюме, в котором ты не вошел бы в гостиную твоей матушки!»
Чего бы я не дал, чтобы родитель этого подающего надежды юноши в один прекрасный день поднялся на борт и поглядел, как его сынок, в матросской куртке, в красной феске с кисточкой, в подшитых кожей штанах, стоит во весь рост на баке и преспокойно созерцает океанские просторы, — такому, конечно, самое место в любой гостиной.
После приятнейшей морской прогулки и основательного отдыха мы подошли к берегам Египта, и в сиянии чудеснейшего заката явились нам купола и минареты Александрии. Едва бросили якорь, мы с Джеком наняли лодку и съехали на берег. Был уже поздний вечер, и остальные пассажиры решили остаться дома, с тем чтобы посетить древний Египет после утреннего завтрака. Так было и в Константинополе. Все они живо интересовались еще не виданными странами, но их ребячливое нетерпение повыветрилось; да кроме того, они убедились на опыте, что куда разумнее не слишком усердствовать и путешествовать с полным комфортом: древние страны за ночь никуда не денутся, они могут подождать, пока люди позавтракают.
На пристани пассажиров поджидала целая армия погонщиков с осликами не больше их самих; ослики в Египте те же омнибусы. Мы предпочли бы пойти пешком, но были не вольны в своих поступках. Мальчишки обступили нас, оглушили криком, и, куда бы мы ни повернули, они со своими ослами все время оказывались у нас на дороге. Эти юные погонщики народ вполне добродушный, и их ослики тоже. Пришлось нам усесться на осликов, а мальчишки бежали сзади и погоняли их изо всех сил, так что они скакали бешеным галопом, как заведено в Дамаске. Право же, из всех верховых животных, какие только есть на свете, я предпочитаю ослика. Он идет ходко, не задирает нос, послушен, хотя и упрям. Он не испугается самого черта, и притом он удобен, очень удобен: если устанешь от езды, можно спустить ноги на землю и дать ему ускакать из-под тебя.
Мы разыскали отель, получили комнаты и с великой радостью узнали, что однажды здесь останавливался принц Уэльский. Об этом извещают все вывески. С тех пор больше никакие принцы здесь не останавливались, пока не прибыли мы с Джеком. Потом мы пошли бродить по улицам, и оказалось, что это город огромных магазинов и контор, широких, красивых проспектов, залитых газовым светом. Вечером он чем-то напомнил нам Париж. Но вдруг Джек увидал ресторанчик, где подавали мороженое, и тем самым на сегодня нашим странствованиям пришел конец. Было очень жарко, а Джек давно уже в глаза не видал мороженого, так что нечего было и думать вытащить его отсюда, пока ресторанчик не закроется.
Наутро заблудшее племя американских кочевников хлынуло на берег, наводнило отель и завладело всеми осликами и прочими средствами передвижения, какие тут нашлись. Живописной процессией они двинулись к американскому консульству, к прославленным висячим садам, к иглам Клеопатры[222], к колонне Помпея, ко дворцу египетского вице-короля, к Нилу, к великолепным рощам финиковых пальм. У одного из наших самых заядлых охотников за реликвиями был с собой молоток, и он попытался отколоть кусочек от стоящего обелиска, но не смог; тогда он попробовал отколоть кусочек от поверженного обелиска — снова неудача; он попросил у каменотеса кувалду — и опять у него ничего не вышло. Попробовал подступиться к колонне Помпея — и просто руками развел. Вокруг этого горделивого памятника повсюду стоят величавые сфинксы, высеченные из твердого, как вороненая сталь, египетского гранита; пять тысяч лет прошло над ними, но времени не удалось наложить на них свою печать и исказить их строгие черты. Наш охотник за реликвиями, обливаясь потом, безуспешно пытался отбить от них кусочек. С таким же успехом он мог бы попытаться изуродовать луну. Сфинксы невозмутимо глядели на него, улыбаясь своей извечной горделивой улыбкой, которая словно говорила: «Старайся, козявка, старайся! Что нам такие, как ты? За долгие, долгие века мы видели многое множество тебе подобных, больше, чем песчинок у тебя под ногами; а разве ты найдешь на нас хоть единую царапинку?»
Но я позабыл о яффских поселенцах. В Яффе мы приняли на борт человек сорок из одной знаменитой общины. Тут были мужчины и женщины, младенцы, юноши и девушки, молодожены и те, для которых лучшая пора жизни только что миновала. Я имею в виду «Яффскую колонию Адамса». Другие сбежали еще раньше. В Яффе остались мистер Адамс с супругой и пятнадцать неудачников без гроша в кармане, не знавших, что им делать и куда податься. Так нам объяснили. У тех сорока, что мы взяли на борт, с первой же минуты вид был достаточно жалкий, и всю дорогу они пластом лежали на палубах, мучаясь морской болезнью, и мне кажется, она их едва не доконала. Впрочем, двое молодых людей оставались на ногах, и после долгих приставаний нам удалось кое-что у них выведать. Они отвечали нехотя, отрывочно, ибо их пророк бессовестно надул их, и они чувствовали себя униженными и несчастными. В подобных случаях люди не склонны к откровенности.
Колония потерпела полное фиаско. Я уже говорил, что все, кто мог, постепенно сбежали. Пророк Адамс — в прошлом актер, потом еще неведомо кто, а под конец мормон и проповедник, но неизменно авантюрист — остался в Яффе с горсточкой своих достойных сожаления подданных. Те сорок, которых мы увезли, были за редкими исключениями люди без всяких средств. Они хотели только одного — попасть в Египет. Что будет с ними дальше, они не знали, им было все равно — лишь бы убраться подальше от ненавистной Яффы. Надеяться им было не на что. После того, как совершенно посторонние люди в Бостоне неоднократно через газеты взывали к добрым чувствам жителей Новой Англии, и после того, как там была учреждена контора по сбору пожертвований для яффских колонистов, подписка принесла... один доллар. Генеральный консул в Египте показал мне газетную заметку, в которой говорилось об этом, и сказал также, что все начинания прекращены и контора закрыта. Очевидно, практические жители Новой Англии не прочь отделаться от подобных мечтателей и отнюдь не склонны посылать кого-нибудь за ними. Но для злополучных колонистов было уже счастьем добраться до Египта, хотя едва ли у них была надежда двинуться дальше.
Вот при таких-то обстоятельствах они сошли с нашего корабля в Александрии. Один из наших пассажиров, мистер Мозес С. Бич, из нью-йоркской газеты «Сан», спросил генерального консула, во что обойдется возвращение всех этих людей в штат Мэн через Ливерпуль, и тот ответил, что хватило бы полутора тысяч долларов золотом. Мистер Бич подписал чек, и мытарствам яффских колонистов пришел конец[223].
Александрия слишком напоминает европейский город, чтоб быть нам в новинку, и она быстро нам прискучила. Мы сели в поезд и отправились в древний Каир. Вот это самый настоящий, первоклассный восточный город! Если вы вообразите, будто находитесь в самом сердце Аравии, здесь вряд ли что-либо выведет вас из заблуждения. Величественные двугорбые верблюды и дромадеры, смуглые египтяне и гурки и чернокожие эфиопы в тюрбанах, подпоясанные шарфами, поражающие великим разнообразием восточных нарядов самых ослепительных цветов и оттенков, теснятся повсюду на узких улочках и многолюдных, точно ульи, базарах. Мы остановились в гостинице «Приют пастуха»; худшей гостиницы не сыскать в целом свете, кроме разве той, в которой мне случилось когда-то остановиться в одном городишке у нас в Штатах. Приятно теперь перечитать ее описание в моей записной книжке, твердо зная, что я наверняка перенесу и «Приют пастуха», — ведь я побывал в точно такой же гостинице в Америке и остался жив.
«Я остановился в Бентон-Хаус. Когда-то это был хороший отель, но это еще ничего не доказывает, — я и сам когда-то был хорошим мальчиком. Оба мы с годами испортились. Теперь Бентон далеко не хороший отель.
Для этого ему слишком многого не хватает. В преисподней можно найти куда более удобные отели.
Я приехал сюда поздно ночью и предупредил портье, что мне понадобится много света, так как я хочу почитать часок-другой. Когда мы с коридорным добрались до номера пятнадцатого (мы прошли полутемную прихожую, устланную ветхим, выцветшим ковром, во многих местах протертым и залатанным кусками старой клеенки, половицы прогибались иод ногами и отчаянно скрипели при каждом шаге), коридорный зажег свет — желтый огарок чахоточной сальной свечки длиной в два дюйма; он загорелся синим пламенем, зашипел и, отчаявшись, погас. Коридорный опять зажег его, и я спросил, неужели это и есть все освещение, которое прислал мне портье. «Что вы, — сказал он, — у меня еще есть», — и достал еще один огарок. «Зажгите оба, — сказал я, — иначе мне и одного не разглядеть». Он так и сделал, но этот свет был мрачнее самой тьмы. Однако мошенник не падал духом и рад был услужить. Он сказал, что сбегает «кое-куда» и стащит лампу. Я поддержал и одобрил его преступный замысел. Спустя десять минут я услышал, как в прихожей его окликнул хозяин:
— Куда ты тащишь лампу?
— Пятнадцатый требует, сэр.
— Пятнадцатый! Да ведь он получил двойную долю свечей. Он что, хочет устроить иллюминацию? Или факельное шествие? Чего ему, собственно говоря, надо?
— Ему свечи не по вкусу... говорит, подайте лампу.
— Да на что ему? Сроду ничего подобного не слыхал... На кой черт ему лампа?
— Говорит, почитать охота.
— Читать, вон что? Мало ему тысячи свечей, ему лампу подавай! Хотел бы я знать, на черта ему сдалась лампа? Снеси ему еще свечу, и если...
— Но он требует лампу! Спалю, говорит, к дьяволу вашу халупу, если не дадите мне лампу! (Ничего подобного я не говорил.)
— Поглядел бы я, как это он нас спалит. Ладно, тащи ему лампу, хотя, ей-Богу, не пойму... Ты все-таки попробуй разузнать, на что она ему сдалась.
И он пошел прочь, ворча себе под нос и не переставая удивляться странному поведению пятнадцатого номера. Лампа была хороша, но при ее свете открылись весьма неприятные вещи: например, постель в глубине пустынной комнаты — не постель, а горы и долы, и удобно улечься в ней можно было лишь одним способом: половчее пристроившись к той выемке, которая осталась в матраце после предыдущего постояльца; ковер, видавший лучшие дни; печальный умывальник в дальнем углу и удрученный кувшин, оплакивающий свой отбитый нос; зеркало, треснувшее посредине, которое отрубает тебе голову по самый подбородок, так что становишься похож на какое-то недоделанное чудище; обои, лоскутами свисающие со стен.
— Прелестно, — сказал я со вздохом. — А теперь не принесете ли вы мне чего-нибудь почитать?
— Отчего же, — сказал коридорный. — У старика прорва книг без толку валяется.
И он исчез, прежде чем я успел сказать, какой литературе я отдаю предпочтение. И однако лицо его выражало глубочайшую уверенность, что он успешно справится со своей задачей. Старик поймал его на месте преступления:
— На что тебе эти книги?
— Пятнадцатый требует, сэр.
— Опять этот пятнадцатый! Потом он потребует грелку, потом сиделку! Тащи к нему все, что есть в доме, тащи буфетчика, и багажный фургон, и горничную! Вот провалиться, отродясь такого не видал. На что, говоришь, ему книги?
— Читать захотел, надо думать, не станет же он их есть.
— Читать захотел... читать? Среди ночи-то? Рехнулся он, что ли? Не будет ему книг.
— А он говорит, ему непременно надо; говорит, все переверну, весь дом разнесу, подавай книги, да и все тут... уж и не знаю, что он натворит, если не дать ему книг; он ведь пьяный, да шалый, да отчаянный такой, ничем его не угомонишь, только этими окаянными книгами. (Я ничем не угрожал и вовсе не был таков, каким меня расписал коридорный.)
— Ладно, ступай. А я буду поблизости. Пусть он только начнет буянить. Я ему побуяню, я его живо в окошко выкину.
И старый джентльмен пошел прочь, как и прежде, бормоча что-то себе под нос.
Этот коридорный был просто гений. Он положил на постель целую охапку книг и пожелал мне доброй ночи с таким видом, словно ничуть не сомневался, что эти книги придутся мне по вкусу. И он не ошибся. Его выбор угодил бы любому. Тут были: и теология — труд преподобного доктора Каммингза «Великие свершения», и право — «Исправленный свод законов штата Миссури», и медицина — «Ветеринарный справочник», и романтическая проза — «Труженики моря» Виктора Гюго и поэзия — сочинения Вильяма Шекспира. Я никогда не устану восхищаться находчивостью и умом этого талантливого слуги».
У наших дверей собрались, кажется, все ослики, сколько их есть в христианском мире, и чуть ли не все египетские мальчики, и слышен, мягко выражаясь, некоторый шум. Мы собираемся съездить поглядеть знаменитые египетские пирамиды, и сейчас идет смотр ослам, которые нас повезут. Пойду выберу себе скакуна, пока не расхватали самых лучших.
Глава XXXI. «Изысканные» ослики. — Образцы египетской скромности. — Моисей в тростнике. — Место, где проживало святое семейство. — Пирамиды. — Величественный сфинкс. — Великий древний Египет.
Ослики все были хорошие, красивые, крепкие и резвые, и им не терпелось доказать это на деле. Таких замечательных осликов у нас еще не бывало, и таких recherché[224]. Я не знаю, что такое recherché, но для них это самое подходящее слово. Некоторые были приятного мышино-ceporo цвета, другие — белые, черные и пестрые. Одни были чисто выбриты, только копчик хвоста болтался кисточкой; другие подстрижены наподобие садовых газонов: все тело в прихотливых узорах из бархатных проплешин, оставленных ножницами, и из кустиков длинной шерсти. Все они только что от парикмахера, все чрезвычайно элегантны. Нескольких белых осликов разукрасили синими, красными и желтыми полосами, и они стали точно радужные зебры. Они были до того великолепны, что не передать словами. Дэн и Джек выбрали себе расписных осликов, потому что они напомнили им итальянских старых мастеров. Седла были высокие, жесткие, в форме лягушки, знакомые нам по Эфесу и Смирне. Погонщики, бойкие египетские мальчики, могли полдня бежать за своими осликами, которых они пускали галопом, и ни капельки при этом не устать. Когда мы садились на своих скакунов, мы не испытывали недостатка в зрителях, так как в гостинице было полно англичан, направлявшихся в Индию, и офицеров, которые должны были принять участие в военных действиях против абиссинского негуса Теодора[225]. Одно нехорошо: осликами невозможно править. Они не слушали никаких резонов и то и дело сталкивались с верблюдами, дервишами, эффенди, с другими ослами, нищими и со всем, с чем только можно столкнуться. Но когда мы выехали на широкую дорогу, ведущую из города к Старому Каиру, там места оказалось вдоволь. Величественные финиковые пальмы стеной стояли по обочинам, ограждая сады, тень их ложилась на дорогу, и воздух был прохладный и бодрящий. Мы воспрянули духом и поскакали сломя голову, точно спасаясь от погони. Хотел бы я еще хоть раз в жизни испытать такое наслаждение.
Во время этой скачки мы имели случай несколько раз убедиться в поразительной простоте восточных нравов. Проезжей дорогой шла девочка лет тринадцати в костюме Евы до грехопадения. Я хочу сказать, у нас в Америке ей дали бы тринадцать, но здесь выглядят тринадцатилетними девочки лет девяти, не старше.
Нам случалось видеть совершенно голых, великолепно сложенных мужчин, которые купались у всех на виду, нимало этим не смущаясь. Однако через какой-нибудь час паломники примирились с этим забавным обычаем и перестали обращать на него внимание. Вот с какой легкостью эти пресыщенные новизной впечатлений странники привыкают даже к самым поразительным неожиданностям.
Мы прибыли в Старый Каир, погонщики похватали ослов и побросали их на суденышко с треугольным латинским парусом, мы последовали за ними, и плавание началось. Палуба сплошь была забита осликами и людьми; чтобы управлять парусами, двум матросам приходилось проталкиваться между ними, карабкаться по спинам, пролезать под ногами, а рулевой, всякий раз как ему нужно было перехватить румпель или круто повернуть рулевое колесо, отгонял сперва трех или четырех ближайших осликов. Но что нам было до их забот? Делать нам было нечего, только радоваться прогулке, спихивать ослов с наших мозолей да любоваться видами Нила.
На острове, справа от нас, мы увидели механизм, который называется ниломер, — это каменный столб, его дело отмечать уровень воды и предсказывать: достигнет ли она всего тридцати двух футов — и тогда будет голод; разольется ли, как ей положено, достигнув сорока, — и тогда урожай будет обильный; или поднимется до сорока трех, неся смерть стадам и гибель посевам. Но как он с этим справляется, нам так и не смогли растолковать. На этом же острове до сих пор показывают место, где дочь фараона нашла в тростниках Моисея[226]. Неподалеку от того места, где мы отчалили, проживало святое семейство, поселившееся в Египте на то время, пока Ирод не покончит с избиением младенцев. Дерево, в тени которого они отдыхали, прибыв в Египет, стояло здесь много веков, и лишь совсем недавно вице-президент отослал его в дар императрице Евгении. И как раз вовремя, не то наши паломники добрались бы до него.
Нил в этом месте грязный, быстрый и мутный и лишь немногим ýже Миссисипи.
Мы вскарабкались на крутой берег у захудалого городишки Гиза, снова взгромоздились на осликов и заторопились дальше. Четыре или пять миль дорога шла по высокой насыпи; говорят, султан проложит здесь железную дорогу для того только, чтобы французская императрица, пожаловав в Египет, могла проехать к пирамидам с полным комфортом. Вот оно, истинно восточное гостеприимство! Я счастлив, что нас миновала эта честь и мы можем разъезжать просто на осликах.
До пирамид еще несколько миль, но вот они уже встают над вершинами пальм, четко вырезанные в небе, громадные, внушительные и в то же время смягченные расстоянием. Они словно парят, окутанные дымкой, и кажется, что это не бесчувственный камень, а воздушное видение, греза, и того и гляди эти удивительные сооружения расцветут кружевом зыбких арок или пышными колоннадами, будут снова и снова меняться у нас на глазах, принимая самые причудливые очертания, и наконец растворятся в трепетном сиянии дня.
В конце насыпи мы оставили свой обоз, взошли на парусник, пересекли рукав Нила и пристали к берегу в том месте, где к нему вплотную подходят встающие крутой стеной вдоль всей речной долины пески Великой Сахары. Под палящим солнцем мы с трудом добрели до подножья гигантской пирамиды Хеопса. Теперь она уже не была волшебным видением. Это просто некрасивый уступчатый каменный исполин. Его чудовищные бока — это широкие лестницы, которые, постепенно сужаясь, уходят все выше и выше и высоко в небе заканчиваются острием. Ничтожные букашки — пассажиры и пассажирки с «Квакер-Сити»— ползают на головокружительной высоте, а на самой вершине крошечная черная стайка машет какими-то почтовыми марками, — носовыми платками, как мы догадываемся.
Разумеется, нас окружила орава мускулистых арабов, которые жаждали получить подряд на доставку нас наверх, — они осаждают всех туристов. Разумеется, они подняли такой крик, что не слышно было собственного голоса. Разумеется, шейхи клялись, что положиться можно только на них, договариваться следует только с ними, деньги платить только им, — тогда уже больше никто ничего не будет с нас требовать. Разумеется, они уверяли, что мошенники, которые потащат нас наверх, не посмеют и заикнуться о бакшише. Такой уж здесь порядок. Разумеется, договор был заключен, мы заплатили им, были переданы в руки носильщиков, и они втащили нас на вершину пирамиды, ни на секунду не переставая клянчить и вымогать у нас бакшиш. Мы, разумеется, заплатили им, потому что они нарочно рассеялись по всему широкому боку пирамиды, чтобы мы были подальше друг от друга. Зови не зови на помощь, все равно никого не докличешься, а тащившие нас геркулесы выпрашивали бакшиш так сладко и вкрадчиво, что трудно было устоять, и смотрели при этом так свирепо, словно готовы были вот-вот сбросить нас вниз, — и это убеждало вернее всяких слов.
Каждая ступень была вышиной с обеденный стол, и было их великое множество; на каждого из нас приходилось по два араба: подхватив человека под руки, они скакали вверх по ступеням, втаскивая его за собой, причем он вынужден был всякий раз задирать ноги чуть не до подбородка и притом быстро, — и так без конца, без передышки, до потери сознания. Кто после этого станет отрицать, что подъем на пирамиды превеселое занятие, — оно радует душу, терзает тело, вытягивает жилы, выворачивает суставы, изводит и изматывает. Я умолял арабов вывихивать не все мои суставы сразу, я снова и снова повторял и клятвенно заверял их, что вовсе не жажду оказаться на вершине первым, я всячески убеждал их, что, если попаду туда последним, буду чувствовать себя счастливейшим из людей и вечно буду им благодарен; я просил, уговаривал, умолял остановиться и дать мне минутку отдыха, одну только минутку. Единственным ответом были все более устрашающие скачки, а тут еще им пришел на помощь никем не нанятый доброволец и стал бомбардировать меня сзади ударами головы, угрожая не оставить камня на камне от всей моей политической экономии.
Дважды они давали мне минутную передышку, пока вымогали бакшиш, а потом снова продолжали свой сумасшедший взлет на пирамиду. Они хотели всех обогнать. Им ничего не стоило принести меня, чужестранца, точно жертвенного барашка, на алтарь их дьявольского честолюбия. Но и в скорби расцветает радость. Даже в этот черный час у меня было сладостное утешение. Ибо я знал, что если только эти басурманы не покаются, в один прекрасный день они отправятся прямой дорогой в ад. А они нипочем не покаются, никогда они не расстанутся со своим магометанством. Эта мысль успокоила меня, подбодрила, и на вершине я свалился ослабевший и измученный, но счастливый, — да, бесконечно счастливый, с просветленной душой.
По одну сторону расстилался могучий океан желтых песков без конца и края, величавый, безмолвный и безлюдный, без единой травинки, без проблеска жизни; по другую сторону широко раскинулся египетский рай — зеленая равнина, разрезанная извилистой рекой, усеянная пятнышками селений; по тому, какими крохотными казались в отдалении островки пальм, видно было, как она велика. Она спала, точно в заколдованном сне. Ни звука, ни движения. Посреди нее, над султанами финиковых пальм, вздымаются купола и шпили, мерцая в мягкой переливчатой дымке; дальше, на горизонте, двенадцать стройных пирамид стерегут развалины Мемфиса, а со своего песчаного трона у наших ног безмятежно и задумчиво смотрит на все это спокойный, бесстрастный Сфинкс, как смотрел пять долгих, неторопливых тысячелетий.
Никаким пером не описать, какие муки терпели мы, глядя в горящие, голодные глаза арабов и слушая их непрестанные требования бакшиша. К чему вызывать в памяти предания о былом величии Египта, к чему рисовать в своем воображении Египет, провожающий усопшего Рамзеса к его гробнице, или нескончаемую толпу израильтян, уходящих в пустыню? К чему вообще задумываться? Думать тут невозможно. Нужно иметь про запас заготовленные мысли или уж стряпать их потом.
По установившейся традиции, араб предложил спуститься с пирамиды Хеопса, пробежать по песку двести с лишком ярдов до пирамиды Хефрена, подняться на нее и снова вернуться к нам, на вершину Хеопса, — все за девять минут по часам; и все удовольствие обойдется в один-единственный доллар. В приливе раздражения я сперва хотел было послать этого араба вместе со всеми его подвигами к чертям. Но стойте. Верхняя треть пирамиды Хефрена облицована гладким, как стекло, мрамором. Счастливая мысль осенила меня: да он же наверняка сломает себе шею! Давайте скорей заключим с ним контракт, и пусть бежит. Он взял старт. Мы засекли время. Точно горный козел скакал он со ступени на ступень по широкому боку пирамиды. Он становился все меньше и меньше, потом обратился в подпрыгивающего карлика — и исчез. Мы повернулись и стали всматриваться в ту сторону нашей пирамиды, которая глядит на Хефрен. Сорок секунд... восемьдесят... сто... какое счастье, его уже нет в живых... две минуты... две с четвертью... Вот он! Так и есть, увы, так и есть. Сейчас он совсем крошечный. Медленно, но верно он одолевает полосу песка. Вот он снова прыгает и карабкается. Выше, выше, выше... вот уже гладкий мрамор... сейчас ему конец... Но он цепляется руками и ногами, точно муха, ползет, то и дело сворачивая вправо, вверх, влево, снова вверх... И вот он уже стоит на вершине — маленький черный гвоздик — и машет своим крошечным шарфом! Вот уже он сползает вниз, добрался до ступеней и полетел, как на крыльях. Вот он скрылся из виду. И вот он уже под нами, неутомимо карабкается вверх. Еще мгновение — мы расступаемся, и с диким боевым кличем он вскакивает в круг. Его время — восемь минут сорок одна секунда. Он выиграл. Все кости у него целы. Полная неудача! Я задумался. «Он устал, — сказал я себе, — у него, должно быть, кружится голова. Рискну-ка я еще одним долларом».
Он снова отправился. Проделал тот же маршрут. Поскользнулся на гладком мраморе... Ну, думаю, конец ему. Но нет, какая-то подлая трещина спасла его. И вот он снова среди нас, целый и невредимый. Его время — восемь минут сорок шесть секунд.
Я сказал Дэну:
— Дайте мне доллар. Еще не все потеряно.
Плохо дело. Он опять выиграл. Время — восемь минут сорок восемь секунд. Мое терпение лопнуло. Я был в отчаянии. О деньгах я уже не думал.
— Эй, ты, — сказал я, — прыгни с этой пирамиды вниз головой, и я дам тебе сто долларов. Если тебе не подходят условия, предлагай свои. Я не постою за ценой. Я не уйду отсюда и буду ставить на тебя до тех пор, пока у Дэна есть хоть цент в кармане.
Я уже чувствовал себя победителем: какой же араб упустит столь счастливый случай? Он задумался на мгновение и, кажется, уже готов был согласиться, но тут явилась его мать и все испортила. Ее слезы тронули меня, — я не в силах спокойно видеть женские слезы, — и я предложил и ей сто долларов, если она тоже прыгнет.
Но я потерпел неудачу. Арабы очень уж высоко ценятся в Египте. Они чересчур важничают, что таким дикарям вовсе не к лицу.
Разгоряченные и злые, мы сошли вниз. Драгоман зажег свечи, и, сопровождаемые крикливой толпой арабов, которые всячески навязывали нам свои услуги, мы полезли в дыру у подножия пирамиды. Они потащили нас по какому-то длинному желобу, полого уходящему вверх, и при этом закапали нас с головы до пят свечным салом. Этот желоб был едва ли вдвое шире и выше дорожного сундука, стены, пол и потолок выложены массивными глыбами египетского гранита, каждая шириной с платяной шкаф, вдвое толще его и втрое длиннее. Мы упорно лезли вверх в гнетущей тьме, и я уже думал, что мы вот-вот окажемся под самой макушкой пирамиды, как вдруг мы очутились в «покое царицы», а затем и в «покое царя». Эти просторные палаты не что иное, как склепы. Стены сложены из гигантских плит полированного гранита, искусно пригнанных одна к другой. На иной такой плите с успехом уместилась бы целая гостиная. Посреди покоя царя стоит большой каменный саркофаг, очень похожий на ванну. Вокруг живописно сгрудились свирепые арабы и перепачканные, оборванные паломники, высоко поднимавшие свои свечи; паломники переговаривались между собой, и дрожащие блики света осеняли неярким ореолом одного из неугомонных охотников за сувенирами, который долбил древний саркофаг своим святотатственным молотком.
Наконец мы вырвались на свежий воздух, яркое солнце ударило нам в глаза, и добрых полчаса оборванцы арабы осаждали нас парами, десятками, взводами, и мы платили им бакшиш за услуги, которые, как они клятвенно уверяли, призывая друг друга в свидетели, они нам оказали, а мы-то и не подозревали об этом! Когда всем и каждому было заплачено, они поотстали от нас и, выждав немного, явились опять и предъявили к оплате вновь изобретенный счет.
Мы закусили в тени пирамиды, окруженные этими назойливыми, малоприятными зрителями, а потом Дэн, Джек и я решили немного прогуляться. Воющий рой попрошаек последовал за нами, окружил нас, чуть не преградил нам путь. Среди них был и шейх в белом развевающемся бурнусе и пестром головном уборе. Он требовал прибавки. Но мы переменили тактику — на защиту от них и миллиона не жалко, а на бакшиш ни цента больше не дадим. Я спросил шейха, не уговорит ли он остальных убраться, если мы ему заплатим. Он согласился за десять франков. Мы ударили по рукам и сказали ему:
— Теперь уговори своих подданных отстать от нас.
Он взмахнул над головой своим длинным жезлом, и три араба были повержены во прах. Он носился в толпе как одержимый. Удары сыпались градом, и каждый разил без промаха. Пришлось поспешить на выручку и растолковать шейху, что мы хотим, чтоб он только поучил слегка своих подданных, а убивать их незачем. Через какие-нибудь две минуты мы остались наедине с шейхом и спокойно продолжали путь. Сила убеждения у этого безграмотного дикаря была поистине замечательная.
Каждая сторона пирамиды Хеопса достигает высоты вашингтонского Капитолия или нового дворца султана на Босфоре, она выше купола собора св. Петра в Риме, — иными словами, она тянется вверх на семьсот с лишком футов. Она выше креста на соборе св. Петра почти на семьдесят пять футов. Когда я впервые спустился по Миссисипи, я воображал, будто нет на свете горы выше, чем береговой утес, что стоит меж Сент-Луисом и Новым Орлеаном, близ Селмы, штат Миссури. Высота этого утеса четыреста тринадцать футов. В моей памяти он и поныне остается все тем же великаном. Я и сейчас еще вижу, как деревья и кусты, которыми поросли его склоны, становятся все меньше и меньше, а на самой вершине кажутся просто перышками. Но перед пирамидой Хеопса, этой гигантской каменной горой с безукоризненно правильными очертаниями, воздвигнутой терпеливыми человеческими руками, перед этой величественной гробницей забытого монарха моя любимая гора сильно проиграла. Ведь высота этой пирамиды четыреста восемьдесят футов. Еще прежде того времени, о котором я только что вспоминал, величайшим творением Божьим я считал Холм Холлидея в нашем городе. Казалось, вершина его упирается в самое небо. Высота его была почти триста футов. В те дни я много размышлял о нем, но так и не мог понять, отчего он не прячет свою вершину в облаках и не венчает царственное чело свое вечными снегами. Я слышал, что таков обычай величественных гор в других странах. Помню, вдвоем с приятелем мы урывали часы от уроков, за что случалось отведать и розог, и упорно трудились, подкапывая гигантский валун, который покоился на вершине горы; помню, однажды в суббогу мы честно проработали добрых три часа и наконец увидели, что желанная цель близка; помню, мы сели, отерли пот с лица, подождали, пока пройдет внизу по дороге вышедшая на прогулку компания, и тогда столкнули валун с вершины. Это было восхитительно. Он с грохотом покатился по склону, вырывая молодые деревца, подкашивая кусты, как траву, раздирая, дробя и круша все на своем пути; он разбил в щепы и раскидал штабель дров у подножия горы, пролетел над телегой, ехавшей по дороге, — негр-возница вскинул глаза и низко пригнулся, — и в следующее мгновение смял в лепешку бондарную мастерскую, и оттуда пчелиным роем вылетели бондари. «Великолепно!» — сказали мы, и давай Бог ноги, так как бондари уже лезли вверх по откосу, чтобы поглядеть, что такое стряслось.
И все же, каким чудом ни была та гора, она ничто пред пирамидой Хеопса. Мне не пришло в голову ни одного сколько-нибудь подходящего сравнения, чтобы дать понятие о чудовищной каменной махине, основание которой занимает площадь в тридцать акров, а высота — четыреста восемьдесят утомительных футов, так что я махнул на это дело рукой и пошел к Сфинксу.
Сколько лет я ждал этой встречи — и вот он, наконец, передо мной. Величавые черты его печальны и строги, в них тоска и терпение. Весь его облик исполнен достоинства, какого не встретишь на земле, и доброты, какой никогда не увидишь в человеческом лице. Это камень, но кажется, что он чувствует. И если только каменному изваянию может быть ведома мысль, он мыслит. Взор его устремлен вдаль — и он глядит в ничто, в пустоту. Он глядит поверх всего настоящего, сквозь него — в прошлое. Он глядит поверх океана времени, поверх волн-веков, которые отступают все дальше и дальше, теснясь все ближе друг к другу, и под конец сливаются воедино и, уже неразличимые, откатываются к далекому горизонту древности. Он думает о войнах минувших столетий; о царствах, которые возникали и рушились у него на глазах; о народах, чьего рождения он был свидетель, и следил их расцвет, и видел их гибель; о радости и горе, о жизни и смерти, о величии и падении, снова и снова сменявших друг друга в эти пять тысяч неторопливых лет. Он воплощает в себе неотъемлемое свойство человека — силу человеческого сердца и разума. Это сама Память — мысль, обращенная в прошлое, запечатленная в зримом и осязаемом образе. Всякий, кому ведома щемящая тоска воспоминаний об отошедших днях и о безвозвратно исчезнувших людях — если даже минули всего лишь жалкие десятилетия, — хоть в малой мере поймет печаль, таящуюся в этом суровом взоре, неотступно устремленном в былое, к тому, что видел он, когда еще не возникла История, не сложилось Преданье, — ко всему, что дышало и двигалось на земле в ту таинственную пору, о которой почти ничего не поведали нам даже сказочники и поэты, и сгинуло в свой срок, оставив каменного мечтателя одиноким и чуждым новому веку, среди непостижимых для него дел и событий.
Сфинкс велик в своем одиночестве, он поражает, этот исполин, он волнует душу тайной, которой окутано его прошлое. И пред величавым ликом этого бессмертного камня, который хранит в памяти деяния всех веков и ничего не прощает, человек проникается тем чувством, с каким предстанет он в свой смертный час пред лицо вечного судии.
Есть вещи, которые, щадя доброе имя Америки, лучше было бы, пожалуй, обойти молчанием; но дело в том, что ради истинного блага американцев как раз об этих-то вещах и следует говорить. Пока мы стояли, глядя на Сфинкса, на губе у него вдруг выросла то ли бородавка, то ли какая-то шишка. Послышалось знакомое постукиванье молотка, и мы тут же все поняли. Один из наших благонамеренных гадов ползучих — я хотел сказать: охотников за реликвиями — всполз наверх и пытался отбить образчик от лица самого величавого из всех творений рук человеческих. Но Сфинкс все так же невозмутимо созерцал невозвратное прошлое, не замечая жалкой букашки, что копошилась у него на губе. Египетскому граниту, который устоял против бурь и землетрясений всех времен, не страшны молотки невежд туристов вроде вот этого разбойника с большой дороги. Зря он старался. Мы послали шейха арестовать его, а если это не входит в шейховы полномочия, хотя бы предупредить, что по египетским законам преступление, которое он намеревался совершить, карается тюрьмой или палочными ударами по пяткам. После этого гад отказался от своих попыток и уполз.
Длина Сфинкса сто двадцать пять футов, высота — шестьдесят, обхват головы сто два фута — если только память мне не изменяет, — и весь он вытесан из одной гигантской каменной глыбы, которая крепче всякого железа. Прежде чем от этой громады отбили четверть или даже половину, чтобы превратить ее в Сфинкса, она, должно быть, была величиною с отель на Пятой авеню. Я привожу эти цифры и сведения лишь для того, чтобы дать представление о том колоссальном труде, которым было создано это прекрасное, безупречное по своим очертаниям и пропорциям изваяние. Камень так прочен, что статуи, вытесанные из него, нимало не меняются, простояв две-три тысячи лет под открытым небом. Так не целое ли столетие терпеливого тяжкого труда понадобилось на то, чтобы создать этот Сфинкс? Очень может быть.
Уж не помню, что помешало нам побывать у Красного моря и пройти по аравийским пескам. Не стану описывать мечеть Махмуда-Али, в которой все внутренние стены из отполированного, сверкающего алебастра; не стану рассказывать о том, как птицы вьют гнезда в стеклянных шарах огромных люстр, висящих в мечети, и наполняют ее своим пением, и никого не боятся, ибо здесь им прощают их дерзость, уважают их права и никому не дозволено мешать им, хоть мечети и грозит опасность в конце концов остаться без света; уж конечно я не стану пересказывать избитую историю о резне мамелюков[227], ибо я рад, что этих бессовестных негодяев вырезали, и не желаю возбуждать к ним сочувствия; не стану рассказывать о том, как спасся бегством единственный мамелюк, заставив своего коня прыгнуть с крепостной стены высотою в сто футов, — по-моему, в этом нет ничего особенного, я бы и сам так сумел; не стану рассказывать ни о превосходно сохранившемся колодце Иосифа, высеченном в скале, на которой стоит эта крепость, ни о мулах, которых Иосиф купил, чтобы они, шагая по кругу, вытаскивали воду наверх, — они и по сей день тянут ту же лямку, и кажется, им уже начинает порядком надоедать это занятие; не стану рассказывать и о житницах, которые построил Иосиф, чтобы хранить зерно, когда египетские маклеры продавали хлеб на срок, не подозревая, что к тому времени, как им нужно будет предъявить свой товар, во всей стране не будет ни зернышка; ни слова не скажу о странном-престранном городе Каире, потому что здесь я снова увидел все то, что отличает другие восточные города, о которых я уже говорил, только усиленное во сто крат; не стану рассказывать ни про великий караван, который ежегодно отбывает отсюда в Мекку, ибо я его не видел, ни про обычай мусульман простираться ниц, образуя живой настил, по которому проезжает на обратном пути глава экспедиции и тем гарантирует им спасение души, — ибо этого я тоже не видал; не буду говорить о здешней железной дороге, ибо она ничем не отличается от любой другой железной дороги, — скажу лишь, что топливом для паровоза служат мумии трехтысячелетней давности, скупаемые тоннами, а то и целыми кладбищами, и что нечестивый машинист иногда с досадой кричит: «Пропади они пропадом, эти плебеи, жару от них ни на грош! Подбрось-ка еще фараонов»;[228] не стану рассказывать о селениях бедняков, о жмущихся друг к другу островерхих хижинах, слепленных из ила, которые, словно осиные гнезда, торчат по всему Египту на бесчисленных холмах выше полосы, показывающей уровень воды во время разлива; не стану описывать бескрайную равнину, всю в пышных всходах, щедро зеленеющих на фоне ярко-синего неба повсюду, насколько хватает глаз; не буду говорить о том, какими предстали перед нами пирамиды, когда нас отделило от них двадцать пять миль, ибо картина эта слишком воздушна, чтобы писать ее лишенным вдохновения пером; не стану рассказывать о смуглых женщинах, которые кинулись к вагонам, когда поезд наш на минуту остановился на станции, и начали наперебой предлагать нам свой товар — воду и ярко-красные сочные гранаты; не буду рассказывать о пестрых толпах в диковинных нарядах, украшавших ярмарку, которая была в полном разгаре на другой варварской станции; не стану рассказывать ни о том, как мы лакомились свежими финиками и любовались проносящимися за окном чудесными видами; ни о том, как мы наконец с грохотом вкатились в Александрию, шумной гурьбой высыпали из вагонов, на веслах подошли к своему кораблю, оставив на берегу одного из наших (он хотел вернуться в Европу и уже оттуда домой), подняли якорь и наконец после долгих странствий окончательно и бесповоротно устремились к родным берегам; ни о том, как в час, когда солнце закатилось над самой древней в мире землей, Джек и Моулт торжественно уселись в курительной и всю ночь оплакивали потерянного друга и никак не могли утешиться. Обо всем этом я не скажу ни слова, не напишу ни строчки. Все это будет как книга за семью печатями. Я не знаю, что такое книга за семью печатями, сроду такой не видал, но тут самое место употребить это выражение, потому что оно весьма популярно.
Мы радовались, что посетили землю, которая была матерью цивилизации, которая научила грамоте Грецию, а через нее Рим, а через Рим и весь мир; землю, где горемычные сыны Израиля могли бы стать гуманным и цивилизованным народом, но которая дала им уйти едва ли не дикарями. Мы радовались, что посетили землю, просвещенная религия которой сулила вечную кару грешнику и воздаяние праведнику, тогда как даже религия Израиля ничего не обещала за гробом. Мы радовались, что посетили землю, где знали стекло на три тысячи лет раньше, чем в Англии, и умели так расписывать его, как никто из нас еще и сейчас не умеет; где уже три тысячи лет назад в медицине и хирургии знали едва ли не все, что наука «открыла» совсем недавно; где были все те хитроумные хирургические инструменты, которые наука «изобрела» в последнее время; где уже существовали тысячи искусно выполненных предметов роскоши и первой необходимости, отличающих высокую цивилизацию, до которых мы мало-помалу додумались и сумели накопить их — и теперь уверяем, что ничего подобного еще не бывало на свете; где бумага появилась многие сотни лет назад, когда мы о ней еще и не мечтали, и парики — задолго до того, как в них стали щеголять наши женщины; где великолепная система общественного образования существовала настолько раньше, чем мы начали похваляться своими достижениями в этой области, что кажется, это было поистине в незапамятные времена; где так бальзамировали мертвецов, что плоть стала едва ли не бессмертной, а нам этого не дано; где возводились храмы, которые бросают вызов разрушительному времени и с презрительной улыбкой взирают на наши хваленые чудеса зодчества; древнюю землю, где людям было ведомо все то, что мы знаем сегодня, а быть может и многое другое; землю, которая была широкой столбовой дорогой цивилизации еще на заре творенья, задолго до того, как мы появились на свет; где печать возвышенного, утонченного разума оставлена на вечном челе Сфинкса, дабы посрамить всех насмешников, которые в дни, когда все иные свидетельства исчезнут бесследно, попытались бы убедить мир, будто в пору своей величайшей славы царственный Египет блуждал во мраке невежества.
Глава XXXII. Едем домой. — Выродившаяся записная книжка. — Мальчишеский дневник. — Старая Испания. — Кадис. — Прекрасная Мадейра. — Восхитительные Бермудские острова. — Английское гостеприимство. — Наш первый несчастный случай. — Дома. — Аминь.
Мы снова в море, и нам предстоит долгое-долгое плавание: мимо всего Леванта, через все Средиземное море, потом через Атлантический океан, — это займет около месяца. Вполне понятно, что мы зажили тихой, мирной жизнью, решили стать людьми скромными и примерными, заправскими домоседами и недельки три-четыре не пускаться ни в какие странствия. Во всяком случае, не дальше чем от носа до кормы. Впрочем, это очень приятная перспектива, ибо мы устали и нам надо основательно отдохнуть.
Мы все обленились и утолили свою страсть к приключениям, о чем свидетельствует скудость моих записей в эти дни (для меня это самый верный указатель). Как ни говори, а глупая это затея вести путевой дневник в море. Вот, полюбуйтесь:
Воскресенье. — В четыре склянки, по обыкновению, заутреня. Вечером тоже служба. Никаких карт.
Понедельник. — Прекрасный день, но проливной дождь. Скот, купленный в Александрии на убой, нужно бы прирезать — или уж откормить. Во впадинах на загривке у животных скапливается вода. А также по всей спине. К счастью, это не коровы, а не то вода, просочившись внутрь, испортила бы молоко. Бедняга орел[229], вывезенный из Сирии, примостился на переднем кабестане и выглядит мокрой курицей. У него, видно, нашлось бы что сказать о морских путешествиях, умей он говорить, и если бы слова его обратились в камень, их хватило бы, чтобы запрудить самую широкую реку.
Вторник. — Где-то неподалеку от острова Мальта. Остановки не будет. Холера. Погода штормовая. Многие страдают морской болезнью и не показываются.
Среда. — Непогода все еще свирепствует. Бурей снесло с берега двух птиц, и они опустились на корабле. Ястреба тоже снесло в море. Он кружил и кружил над нами — хотел сесть, но боялся людей. Однако он так устал, что в конце концов ему пришлось сесть, не то он бы погиб. Он снова и снова опускался на передний марс, но ветер тут же срывал его. Наконец Гарри его поймал. Море полным-полно летающих рыб. Они поднимаются стаями по триста штук, пролетают двести—триста футов над гребнями волн, потом падают в воду и исчезают.
Четверг. — Бросили якорь в виду Алжира, Африка. Красивый город, за ним красивые зеленые холмы. Простояли полдня и отплыли. Высадку не разрешили, хотя мы предъявили документы, что все здоровы. Здесь боятся египетской чумы и холеры.
Пятница. — Утром домино. Днем домино. Вечером прогулка по палубе. Потом шарады.
Суббота. — Утром домино. Днем домино. Вечером прогулка по палубе. Потом домино.
Воскресенье. — В четыре склянки заутреня. В восемь склянок вечерня. Скука до полуночи. Потом домино.
Понедельник. — Утром домино. Днем домино. Вечером прогулка по палубе. Потом шарады и лекция доктора К. Домино.
Без числа. — Бросили якорь в виду живописного города Кальяри, Сардиния. Стояли до полуночи, но эти гнусные чужестранцы не разрешили съехать на берег. Они плохо пахнут, они не моются — им нужно бояться холеры.
Четверг. — Бросили якорь в виду красивого города Малага, Испания. Съехали на берег в капитанской шлюпке... впрочем, не на берег, так как сойти нам не дали. Карантин. Приняли мою корреспонденцию для газет — взяли ее щипцами, окунули в морскую воду, изрешетили дырками и окурили какой-то дрянью, пока она не запахла, как настоящий испанец. Навели справки, нельзя ли прорвать блокаду и побывать в Альгамбре, Гренада. Слишком рискованно — могут повесить. Среди дня снялись с якоря.
И так далее и тому подобное, все в том же духе несколько дней подряд. Наконец бросили якорь в виду Гибралтара, который кажется знакомым, почти родным.
Это напоминает мне дневник, который я однажды завел на Новый год, когда был еще мальчишкой — доверчивой и безответной жертвой тех неосуществимых планов самосовершенствования, которыми благонамеренные старые девы и бабушки точно сетями уловляют в это время года неосторожных юнцов — ставят перед ними недостижимые цели, что неизбежно кончается крахом, и тем самым неминуемо ослабляют в мальчишке волю, подрывают его веру в себя и уменьшают его шансы на успех в жизни. Вот, предлагаю вашему вниманию образчик из этого дневника:
Понедельник. — Встал, умылся, лег спать.
Вторник. — Встал, умылся, лег спать.
Среда. — Встал, умылся, лег спать.
Четверг. — Встал, умылся, лег спать.
Пятница. — Встал, умылся, лег спать.
Следующая пятница. — Встал, умылся, лег спать.
Пятница через две недели. — Встал, умылся, лег спать.
Через месяц. — Встал, умылся, лег спать.
На этом я и остановился, окончательно пав духом. Видно, слишком редки оказались в моей жизни необычайные события, чтобы стоило вести дневник. Однако я и сейчас с гордостью думаю о том, что даже в столь юном возрасте я, встав поутру, умывался. Этот дневник погубил меня. С тех пор у меня уже никогда не хватало мужества завести другой. Веру в свои силы по этой части я утратил раз и навсегда.
Нашему пароходу предстояло на целую неделю, а то и больше, задержаться в Гибралтаре, чтобы запастись углем на обратное плавание.
Оставаться на борту было бы очень скучно, и мы вчетвером вырвались из карантина и провели семь восхитительных дней в Севилье, Кордове, Кадисе да еще успели побродить по живописным сельским дорогам Андалусии, этого сада Старой Испании. Наши впечатления от всего виденного за эту неделю слишком разнообразны и многочисленны — их не уложить в короткую главу, а для длинной у меня нет места. Поэтому я умолчу о них.
Однажды утром в Кадисе, часу в одиннадцатом, мы сошли к завтраку. Нам сказали, что наш корабль уже часа три как стоит на якоре в гавани. Надо было поторапливаться: из-за карантина корабль не сможет долго нас дожидаться. Вскоре мы уже были на борту, и не прошло и часу, как белый город и прелестные берега Испании скрылись за волнами и пропали из глаз. Еще ни с одной страной мы не расставались так неохотно.
Уже давно, на шумном сборище в салоне, мы порешили, что нельзя заходить в Лиссабон, потому что там мы непременно попадем в карантин. По доброму старому обычаю американцев, мы всё решали вот так, сообща, — всё, начиная от замены очередного государства, предусмотренного в нашем маршруте, другим, и до жалоб на плохой стол и нехватку салфеток. Мне вспоминается жалоба одного из пассажиров. Вот уже три недели, заявил он, как нам подают все более отвратительный кофе, и теперь это уже никакой не кофе, а просто подкрашенная водичка. Кофе такой жидкий, что просвечивает на целый дюйм. Однажды утром этот пассажир, обладающий на редкость острым зрением, еще издали завидел сквозь кофе дно своей чашки. Он тут же отправился к капитану Дункану и выразил ему свое возмущение. «Стыд и срам, что нам подают такой кофе», — сказал он. Капитан показал ему свою чашку. Его кофе был вполне приличный. Тут начинающий бунтарь разъярился и того пуще, он не мог стерпеть столь явного предпочтения капитанскому столу перед всеми остальными. Он прошествовал обратно, взял свою чашку и с победоносным видом поставил ее перед капитаном.
— Вот, попробуйте это пойло, капитан Дункан.
Капитан понюхал, попробовал, снисходительно улыбнулся и сказал:
— Как кофе — это, конечно, никуда не годится, но это неплохой чай.
Посрамленный бунтарь тоже понюхал, попробовал и вернулся на свое место. Ну и дурака же он свалял при всем честном народе. Больше он уже не бунтовал. Впредь он принимал жизнь такой, как она есть. Этим дураком был я.
Теперь, вдали от всех берегов, мы вновь зажили размеренной, привычной жизнью. Дни шли за днями, один точь-в-точь как другой, и все они радовали меня. Наконец мы бросили якорь на открытом рейде Фунчала, у прекрасного острова, который известен под именем Мадейра.
Здешние горы несказанно хороши, пышная зелень одевает их, потоки лавы застыли на них величавыми складками, повсюду рассыпаны белые домики, склоны иссечены глубокими ущельями, где и днем царит лиловый сумрак, пологие склоны в ярких солнечных пятнах, в изменчивых тенях проплывающих в небе воздушных флотилий, — и всю эту великолепную картину достойно венчают неприступные пики, чело которых задевают пушистыми краями скользящие мимо облака.
Но съехать на берег нам не удалось. Мы простояли в виду Мадейры весь день, глядя на нее с тоской; мы всячески поносили того, кто изобрел карантин; раз шесть мы сходились и обсуждали положение: перебивая друг друга, произносили несчетное множество речей; вносили несчетное множество предложений, которые умирали, не успев родиться, поправок, которые немедленно проваливались, резолюций, которые испускали дух в тщетных усилиях обрести поддержку всего высокого собрания. Ночью мы подняли якорь.
У нас на борту бывало не меньше четырех собраний в неделю, так что дни наши проходили в трудах и заботах, но зачастую столь бесплодных, что в тех редчайших случаях, когда нам удавалось благополучно разрешиться резолюцией, наступало всеобщее ликование и мы поднимали флаг и стреляли из пушки.
Дни шли за днями, и ночи тоже; вот из моря поднялись прекрасные Бермуды, мы вошли в извилистый пролив, поплутали меж одетых в пышный летний убор островов и наконец нашли приют под гостеприимным английским флагом. Вместо испанских и итальянских предрассудков, грязи и панического страха перед холерой здесь нас встретили цивилизация и здравомыслие, здесь мы ни для кого не были пугалом. Несколько дней провели мы среди прохладных рощ, цветущих садов, коралловых бухт, любовались прихотливо изрезанным берегом и ослепительно синим морем, которое то открывалось нам, то пряталось за сплошной стеной пышной и яркой листвы. Все это вновь рассеяло нашу апатию, навеянную сонным однообразием долгого плавания, и теперь мы готовы пуститься в последний рейс — в небольшой, всего в какую-нибудь тысячу миль переход — в Нью-Йорк, в Америку, домой!
Мы простились с «нашими друзьями бермудца-ми», как сказано в нашем проспекте, — наиболее близкие отношения у нас установились главным образом с неграми, — и вновь отдались во власть могучего океана. «Главным образом», сказал я. Мы знакомились больше с неграми, чем с белыми, потому что у нас накопилось много белья для стирки; но мы приобрели несколько отличных друзей среди белых и еще долго будем с благодарностью вспоминать их.
Едва мы отплыли, нашей праздности пришел конец. Все без исключения учинили генеральный смотр своему имуществу, перевернули все вверх дном у себя в каютах, усердно укладывали чемоданы, — такой суматохи у нас не было с тех самых пор, как мы бросили якорь в Бейруте. У всех было дел по горло. Составлялся список всех покупок с указанием стоимости, чтобы не застрять надолго в таможне. Предстояло все купленное сообща поделить поровну, расплатиться со старыми долгами, проверить счета и наклеить ярлыки на ящики, тюки, чемоданы. Суета и сумятица продолжались до поздней ночи.
И тут случилось у нас первое несчастье. В бурную ночь один из пассажиров, сбегая по трапу между палубами, споткнулся о незадраенный по оплошности люк, упал и сломал ногу в лодыжке. Это был наш первый несчастный случай. Мы проехали много больше двадцати тысяч миль по морю и по суше, побывали в краях с нездоровым климатом — и все обошлось без серьезных болезней, без единой царапинки, все шестьдесят пять путешественников остались живы и невредимы. Судьба была на удивленье милостива к нам. Правда, как-то ночью, в Константинополе, один наш матрос прыгнул за борт, и больше его никто не видел — подозревают, что он хотел дезертировать, и во всяком случае можно надеяться, что он доплыл до берега. Но пассажиры все были налицо. Ни один не выбыл из списка.
Наконец в одно прекрасное утро мы на всех парах вошли в нью-йоркскую гавань. Все высыпали на палубу, все одеты, как подобает добрым христианам, — таков был приказ, ибо кое-кто замышлял вырядиться турком, — и, глядя на приветственно машущих платками друзей, счастливые паломники почувствовали, как вздрогнула у них под ногами палуба, возвещая о том, что корабль и пристань вновь обменялись сердечным рукопожатием и долгому поразительному странствию пришел конец. Аминь.
Глава XXXIII. Неблагодарный труд. — Прощальное слово в газете. — Заключение.
Здесь я помещаю статью, которую я написал для «Нью-Йорк Геральд'а» в вечер нашего прибытия. Я делаю это отчасти потому, что того требует мой договор с издателем; отчасти потому, что это верный, добросовестный и исчерпывающий итог нашего плавания и подвигов наших паломников в чужих краях; а отчасти еще и потому, что кое-кто из моих спутников бранил меня за нее, и я хочу, чтобы все видели, какая это неблагодарная задача — заниматься прославлением тех, кто не способен оценить твои труды. Меня обвинили в «слишком поспешном опубликовании» этих похвал. А я вовсе не спешил. Я иногда посылал корреспонденции в «Геральд», и, однако, придя в тот день в редакцию, даже не заикнулся о том, чтобы написать прощальное слово. Я сперва зашел в «Трибюн» узнать, не нужна ли им такая статья, ибо я состоял штатным сотрудником этой газеты и это была моя прямая обязанность. Главного редактора я не застал и тут же забыл и думать об этом. Вечером, когда редакция «Геральд“а» попросила меня написать такую статью, я тоже не стал спешить. Напротив, я мешкал с ответом, ибо в ту минуту не склонен был рассыпаться в комплиментах, а потому не желал рассказывать о плавании, боясь, что увлекусь и отзыв мой будет отнюдь не похвальный. Однако я рассудил, что поступлю по чести и справедливости, если напишу несколько добрых слов о наших хаджи (хаджи — это почетное звание паломника), ибо люди сторонние не смогут написать об этом так прочувствованно, как я, собрат хаджи; и тогда я написал эту статью. Я прочел ее раз, прочел другой, и если есть здесь хоть строчка, заключающая в себе что-либо, кроме самой беззастенчивой лести по адресу капитана, корабля и пассажиров, я этого во всяком случае не вижу. Или я ничего не смыслю, или участники какого угодно путешествия могли бы гордиться тем, что среди них нашелся человек, написавший о них такую главу. После этого краткого вступления я уверенно отдаю свое прощальное слово на суд непредубежденного читателя.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРИСТОВ ИЗ СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
Рассказ о морском путешествии.
Редактору газеты «Геральд».
Пароход «Квакер-Сити» завершил наконец свое необычайное плавание и вернулся в родную гавань у подножья Уолл-стрит. В некоторых отношениях путешествие прошло успешно, в других не слишком. Вначале оно было названо «увеселительной поездкой». Что ж, быть может это и была увеселительная поездка, но, право, ни по виду, ни по поведению участников этого не скажешь. Всем и каждому известно, что участники увеселительной поездки уж конечно народ молодой, легкомысленный, шумливый. Их главное занятие — танцевать, петь, влюбляться, а вовсе не читать проповеди. Всем и каждому известно, что на приличных похоронах непременно должны быть дроги и покойник, ближайшие родственники, друзья и просто знакомые, много стариков и старушек, — и всё очень торжественно, ничего фривольного, а в придачу молитва и проповедь. Три четверти пассажиров «Квакер-Сити» были в возрасте от сорока до семидесяти лет! Самая подходящая компания для пикника! Может быть, вы думаете, что последняя четверть состояла из юных девиц? Ничуть не бывало. Это были по преимуществу угрюмые старые холостяки и шестилетнее дитя. Если высчитать средний возраст наших паломников, получится пятьдесят лет. Неужели найдется безумец, способный вообразить, что эти патриархи пели, влюблялись, танцевали, смеялись, рассказывали анекдоты, — словом, вели себя безбожно легкомысленно? Насколько я мог заметить, они ничем таким не грешили. Здесь, на родине, вы без сомнения полагали, что эти резвые ветераны изо дня в день с утра до ночи смеются, поют, затевают шумные игры и на корабле ни на минуту не утихает буйное веселье; что они играют в жмурки и лунными вечерами отплясывают на юте кадрили и вальсы, а в редкие свободные минуты набрасывают строчку-другую в путевые дневники, которые они завели с самого начала, едва покинув родные берега, и ведут аккуратнейшим образом, но их уже призывают новые труды, они спешат засесть за юкр и вист в уютном свете ламп. Если вы так полагали, вы глубоко ошиблись. Почтенные участники плавания не отличались ни веселым нравом, ни резвостью. Они не играли в жмурки, они и не помышляли о висте, они не увиливали от скучных дневников, ибо — увы! — почти все они даже писали книги. Они никогда не затевали шумных игр, почти не разговаривали, никогда не пели, если не считать вечерних молитв. Наш так называемый «увеселительный» корабль напоминал синагогу, а «увеселительная поездка» — похороны без покойника. (В похоронах без покойника тоже веселого мало.) Беззаботный искренний смех раздавался на палубах и в каютах не чаще раза в неделю, и его здесь не очень-то жаловали. Давным-давно (кажется, с тех пор прошла целая вечность) было три вечера с танцами; танцевали кадриль — три дамы и пятеро мужчин (одному рукав повязали носовым платком, в знак того, что он дама, а не кавалер), которые старательно переставляли ноги под унылую музыку страдающего одышкой мелодикона; но даже эта унылая оргия была признана греховной, и танцы прекратились.
Когда необходимо было отдохнуть от чтения Иосифа Флавия или «Исследования о Святой Земле», принадлежащего перу Робинсона, или от писания собственных книг, паломники садились за домино, ибо вряд ли есть на свете другая такая нудная, безгрешная игра — разве что развлечение, которое именуется крокетом (это вам не бильярд, где можно загнать шар в лузу или хотя бы устроить карамболь, и когда партия кончена, никто ничего не платит, никто ничем не угощает, — а стало быть нет в ней никакого удовольствия), и играли, пока не отдохнут, а потом в глубине души кляли партнеров на чем свет стоит до самой вечерней молитвы. В дни, когда их не мучила морская болезнь, они летели в столовую, как на крыльях, при первом же звуке гонга. Такова была наша повседневная жизнь на борту — скука, благопристойность, трапезы, домино, молитвы, злословие. Это мало походило на увеселительную прогулку. Нам не хватало только покойника, чтобы она превратилась в благопристойные похороны. Теперь все это в прошлом, но когда я оглядываюсь назад, воспоминание об этих почтенных ископаемых, отважившихся на полугодовой пикник, веселит мне душу.
Название, которое дано было нашей экспедиции в проспекте — «Увеселительная поездка по Святой Земле», — явно не подходит ей. Назвать ее «Похоронным шествием по Святой Земле» было бы гораздо верней.
Куда бы мы ни прибыли — в Европу ли, в Азию или в Африку — всюду мы производили сенсацию и, осмелюсь прибавить, несли с собой голод и опустошение. Никто из нас до этого нигде не бывал, все мы приехали из глухой провинции; в путешествии этом для нас была захватывающая прелесть новизны, и мы дали волю всем своим природным инстинктам — не церемонились, не связывали себя никакими условностями. Всем и каждому мы спешили дать понять, что мы американцы — американцы, не кто-нибудь! Убедившись, что лишь немногие чужеземцы слыхали о существовании Америки, а весьма многие знали лишь, что это какая-то варварская страна где-то на краю света, которая недавно с кем-то воевала, мы посокрушались о невежестве Старого Света, но ни на йоту не усомнились в собственной значительности. Многие и многие простодушные жители восточного полушария еще долгие годы будут вспоминать о том, как в лето от рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят седьмое к ним вторглась орда незваных гостей, называвших себя американцами и Бог весть почему воображавших, будто они вправе этим гордиться. Мы несли с собою голод и опустошение отчасти потому, что кофе на «Квакер-Сити» был невыносимый, а порою и более существенная пища оказывалась не высшего качества, а отчасти потому, что человеку надоедает изо дня в день сидеть за одним и тем же столом и есть все одно и то же.
Жители этих дальних стран на редкость невежественны. Они во все глаза смотрели на костюмы, которые мы вывезли из дебрей Америки. Они с удивлением поглядывали на нас, если мы иной раз громко разговаривали за столом. Они замечали и то, что мы не любим бросать деньги на ветер и всегда стараемся получить за них возможно больше, и диву давались, откуда таких принесло. Когда в Париже мы заговаривали с ними по-французски, они только глазами хлопали! Нам никак не удавалось хоть что-нибудь втолковать этим тупицам на их же родном языке.
Один из наших, желая объяснить лавочнику, что мы, быть может, еще вернемся к нему за перчатками, сказал: «Allong restay trankeel[230]. Maybe ye coom Moonday[231]». И поверите ли, этот лавочник, коренной француз, переспросил: что это ему такое сказали? Иногда мне даже кажется, что, наверно, есть какая-то разница между тем, как говорят по-французски в Париже и у нас, на «Квакер-Сити».
На нас всюду таращили глаза, и мы таращили глаза на всех. Всякий раз мы заставляли этих иноземцев почувствовать их ничтожество, мы подавляли их своим американским величием и стирали их в порошок. И однако мы были снисходительны к нравам, обычаям, и в особенности модам всех этих разнообразных народов. С Азорских островов мы уезжали в устрашающих балахонах и научились ловко управляться с частыми гребнями. В Танжере, Африка, мы пополнили наш наряд кроваво-красными фесками, с которых свешивались кисточки, как прядь волос с индейского скальпа. Во Франции и в Испании эти наши костюмы не остались незамеченными. В Италии нас, разумеется, приняли за мятежных гарибальдийцев и послали канонерку проверить, не кроется ли чего за этой сменой мундира. Рим при нашем появлении расхохотался. Если бы мы вырядились во все наши одежды, любой город хохотал бы. Мы нисколько не обогатили свой гардероб в Греции — ей нечем похвастать. Зато как мы нарядились в Константинополе! Тюрбаны, кривые сабли, фески, огромные пистоли, бешметы, кушаки, широчайшие шальвары, желтые туфли, — о, мы были просто великолепны! Знаменитые константинопольские псы долаялись до хрипоты и все же не сумели воздать нам должное. Теперь они, конечно, уже все передохли. Мы задали им такую непосильную работу, что они окончательно подорвали свое здоровье.
Потом мы поехали в гости к русскому императору. Мы явились к нему запросто, словно были знакомы с ним целую вечность, а после этого визита нацепили на себя еще и разные предметы русской одежды и, став вдвое живописнее прежнего, отправились дальше. В Смирне мы обзавелись шалями из верблюжьей шерсти и прочими персидскими уборами; но в Палестине... увы, в Палестине нашим блестящим успехам пришел конец. Там не носят ничего, достойного упоминания. Мы примирились с этим и прекратили закупки. Мы не экспериментировали. Мы не примеряли тамошних нарядов. Но мы приводили туземцев в изумление. Мы изумляли их самыми фантастическими нарядами, какие только могли придумать. Мы проехали по Святой Земле от Кесарии Филипповой до Иерусалима и Мертвого моря — диковинная процессия паломников, не испугавшихся расходов, исполненных важности, в зеленых очках, пышно разодетых, дремлющих под зелеными зонтами, верхом на клячах, верблюдах и ослах, еще более жалких, чем тс, которые вышли из Ноева ковчега, просидев без малого год на голодном пайке и измучась морской болезнью. Если сыны Израиля, живущие в Палестине, когда-нибудь забудут, как из Америки вторглись к ним новые гедеоновы полчища, их стоит сызнова предать проклятию и покончить с ними. Быть может, никогда еще столь редкостное, столь поразительное зрелище не представало людским взорам.
Что ж, в Палестине мы чувствовали себя как дома. Легко заметить, что Палестина была гвоздем всего путешествия. Европа нас мало привлекала. Мы галопом проскакали по Лувру, по дворцам Питти и Уффици, по Ватикану, по всем картинным галереям и богато расписанным храмам Венеции и Неаполя, по испанским соборам; некоторые из нас говорили, что те или иные творения старых мастеров — это великие создания гения (мы прочли эти слова в путеводителе, — правда, иногда мы относили их не к той картине, к которой следовало бы), а другие говорили, что это постыдная мазня. Критическим оком озирали мы современную и древнюю скульптуру во Флоренции, в Риме — всюду, где она попадалась нам на глаза, и хвалили, если она приходилась нам по вкусу, а если нет, уверяли, что предпочитаем деревянных индейцев перед табачными лавками в Америке. Но в Святой Земле нашему восхищению не было границ. Мы захлебывались от восторга на бесплодных берегах моря Галилейского; предавались глубоким раздумьям на горе Фавор и в Назарете; ударялись в поэзию, глядя на сомнительные красоты Ездрилона; в Изрееле и Самарии размышляли о проповедническом рвении Ииуя; буря чувств — самая настоящая буря — подхватила нас среди святынь Иерусалима; мы купались в Мертвом море и в Иордане, даже не задумавшись, действителен ли наш страховой полис в сверхрискованных случаях, и увезли с собой оттуда столько кувшинов с драгоценной влагой, что, боюсь, вся страна от Иерихона до горы Моав в этом году будет страдать от засухи. Что и говорить, для всех нас паломничество ко святым местам было лучшей частью нашего путешествия. После унылой, безотрадной Палестины красавец Египет ничем нас не очаровал. Мы только взглянули на него и заторопились домой.
В Мальте нам не разрешили съехать на берег — карантин; и в Сардинии не разрешили, и в Алжире, Африка, и в Малаге, Испания, и в Кадисе, и на островах Мадейра. Тогда мы обиделись на всех чужестранцев, показали им спину и отправились домой. На Бермудах мы остановились, очевидно, только потому, что они были указаны в проспекте. Нам уже не было дела ни до каких новых мест. Мы всей душой стремились домой. Тоска по родине водворилась на корабле — ею заразились все без исключения. Знай нью-йоркские власти, какие размеры приняла у нас эта эпидемия, они бы непременно задержали нас здесь в карантине.
Великое паломничество окончено. Распростимся с ним и сохраним по нем добрую память, говорю я от всего сердца. Я не помню зла, не поминаю лихом никого из моих спутников, будь то пассажиры или капитаны. То, что мне было отнюдь не по душе вчера, очень даже по душе мне сегодня, когда я уже дома, и отныне всякий раз, как мне придет охота подшучивать над нашей братией, в шутках моих уже не будет яду. Путешествие дало нам все, что было обещано в проспекте, и все мы безусловно должны быть удовлетворены тем, как было поставлено дело. До свиданья!
Марк Твен.
По-моему, это очень лестный отзыв. Разве не так? И однако от наших хаджи я не дождался ни слова благодарности; напротив, я ведь не шучу, когда говорю, что многие даже выразили протест против моей статьи. Стараясь угодить им, я целых два часа гнул спину над этим очерком — и все зря. Никогда больше я не стану утруждать себя великодушными поступками.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прошло около года с тех пор, как закончилось это примечательное паломничество; и вот я сижу у себя дома в Сан-Франциско и думаю о нем, — и должен сказать по совести, что день ото дня мне все приятнее вспоминать об этом путешествии, так как все досадные дорожные происшествия постепенно изгладились из памяти; и если бы «Квакер-Сиги» снова снялся с якоря и вторично отправился в тот же рейс, я с превеликим удовольствием снова оказался бы на его борту — с тем же капитаном, даже с теми же паломниками и с теми же грешниками. Я был в наилучших отношениях примерно с десятком своих спутников (они и по сей день мои верные друзья) и даже поддерживал знакомство с остальными пятьюдесятью пятью. Я достаточно поплавал, чтобы понимать, что это недурная пропорция. Ведь долгое морское путешествие не только обнаруживает все твои слабости и недостатки и усиливает их, но извлекает на свет Божий и такие твои пороки, о которых ты никогда не подозревал, и даже порождает новые. Проплавав год по морю, самый обыкновенный человек превратился бы в истинное чудовище. С другой стороны, если человек обладает какими-либо достоинствами, в море он редко их проявляет, и уж во всяком случае не особенно рьяно. Я не сомневаюсь, что на суше наши паломники очень милые люди; не сомневаюсь также, что, отправься они в плавание вторично, они оказались бы несколько милее, чем во время нашего великого похода, — потому-то я и говорю без колебаний, что рад был бы снова выйти с ними в море. Во всяком случае, я бы наслаждался жизнью в кругу моих старых друзей. Л остальные с таким же успехом наслаждались бы жизнью со своими дружками, — на всех кораблях всегда и неизменно пассажиры делятся на обособленные компании.
И еще скажу, что предпочел бы путешествовать в обществе одних Мафусаилов, чем постоянно пересаживаться с корабля на корабль и менять спутников, как делают все, кто путешествует обычным способом. Такие путешественники всегда горюют о корабле, с которым только что расстались, и о спутниках, с которыми у них разошлись дороги. Едва они полюбят какой-нибудь корабль, как уже надо пересаживаться на другой, едва привяжутся к приятному спутнику — и уже надо с ним расставаться. Они непрерывно испытывают все неудобства пребывания на чужом судне, среди чужих людей, которым нет до них дела, терпят вечные придирки незнакомого капитана и выслушивают дерзости незнакомых слуг, — и так без конца, из месяца в месяц. Беднягам, кроме того, приходится то и дело упаковывать и распаковывать чемоданы, мучиться в таможнях, беспокоиться о том, чтобы в целости-сохранности доставить весь багаж из одного города в другой. Чем так страдать, я предпочел бы отправиться в плавание с целым полком почтенных патриархов. Чемоданы мы укладывали всего дважды — когда отправлялись из Нью-Йорка и когда возвращались в Нью-Йорк. Всякий раз, как нам предстояло сухопутное путешествие, мы прикидывали, на сколько дней мы уезжаем, что из одежды нам понадобится в пути, подсчитывали все с математической точностью и соответственно брали один или два саквояжика, а чемоданы оставляли на корабле. Мы выбирали себе спутников среди старых испытанных друзей и пускались в дорогу. Нам не надо было завязывать никаких новых знакомств. Мы часто жалеем американцев, которые путешествовали в грустном одиночестве, окруженные чужими людьми, и не с кем им было разделить свои печали и радости. Всякий раз, как мы возвращались из поездки в глубь страны, мы еще издали первым делом начинали искать наш корабль, и когда видели, как он покачивается на якоре и на мачте развевается флаг, мы испытывали то же чувство, какое волнует путника, когда он завидит отчий дом. Стоило нам ступить на палубу — и всех наших забот, всех тревог как не бывало, ибо корабль был нам домом. Всякий раз нас ждала все та же знакомая каюта, и мы чувствовали себя здесь в безопасности, и нам было спокойно и уютно.
Путешествие наше было превосходно проведено, тут мне не к чему придраться. Все, что обещал нам проспект, было добросовестно выполнено, это немало удивило меня, ибо великие начинания, как правило, обещают куда больше, чем дают. Не худо было бы, чтобы подобные путешествия предпринимались каждый год и вошли бы в систему. Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим и многим у нас в Америке. Тот, кто весь свой век прозябает в одном каком-нибудь уголке мира, никогда не научится терпимости, не сумеет широко и здраво смотреть на жизнь.
Наше путешествие окончилось и отошло в прошлое. Но многое из того, что мы видели, множество самых разных случаев и приключений нам будет приятно вспоминать еще долгие-долгие годы. Всегда на лету, едва успевая бросить беглый взгляд на чудеса половины земного шара, мы не могли надеяться, что у нас останется неизгладимое впечатление от всего, что нам посчастливилось увидеть. И однако наш полет не пропал даром, ибо над путаницей смутных воспоминаний всплывают самые яркие, самые лучшие и значительные — и так и останутся во всем совершенстве своих очертаний и красок еще долго после того, как все остальное выцветет и померкнет.
Мы будем помнить кое-что о прекрасной Франции и о Париже, хотя он промелькнул перед нами, точно ослепительный метеор, и исчез Бог весть когда и как. Мы всегда будем помнить величественный Гибралтар, весь в ярком зареве испанского заката, омываемый радужным морем. Мы увидим в воображении Милан, его величавый собор с целым лесом мраморных шпилей. И Падую, Верону, Комо в алмазных россыпях звезд, и Венецию, покоящуюся на недвижных водах — безмолвную, покинутую, горделивую даже в своем унижении, погруженную в воспоминания об исчезнувших флотилиях, о битвах и победах, о великолепии отгремевшей славы.
Нам не забыть Флоренцию, Неаполь, не забыть Грецию, чарующий воздух которой донес до нас дыхание рая, и уж конечно не забыть Афины и разрушенные храмы Акрополя. Не забыть древний Рим и пышную зелень окрестной равнины, такую яркую по сравнению с его серыми каменными руинами, и рассеянные по этой широкой равнине полуразрушенные арки, иззубренные стены с провалами окон, густо заплетенные виноградной лозой. Мы будем помнить собор св. Петра — не таким, каким видишь его, гуляя по улицам и воображая, будто в Риме все купола одинаковы, но таким, каким он предстает за многие мили, когда все здания поменьше исчезают из виду и лишь он один, горделивый и прекрасный, четко очерченный, огромный, как гора, величественно парит в пламени заката.
Мы будем помнить Константинополь и Босфор; каменные исполины Баальбека; египетские пирамиды; исполненный доброты лик мудрого Сфинкса; восточное великолепие Смирны; священный Иерусалим; Дамаск — «жемчужину Востока», гордость Сирии, земной рай, приют калифов и джиннов из «Тысячи и одной ночи», древнейшую столицу на земле, единственный город в мире, который четыре тысячелетия сохранял свое имя, никому не уступал своего места и невозмутимо взирал, как возникают империи и царства, наслаждаются отпущенным им кратким мигом блеска и славы и навсегда исчезают, не оставив по себе памяти!